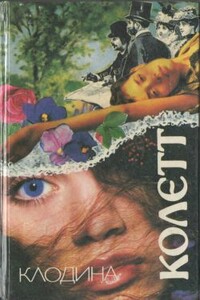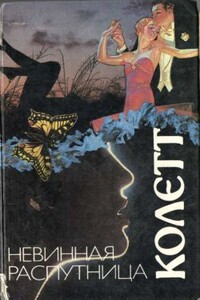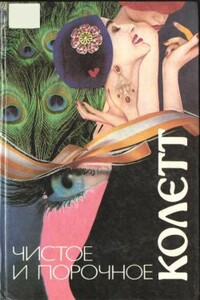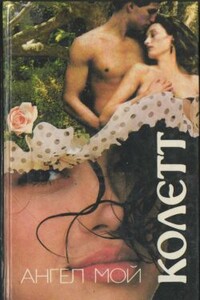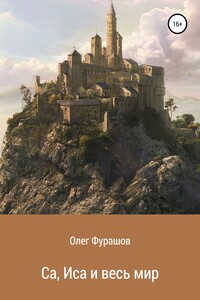– У неё ноги… мокрые? – медленно проговорил Ален.
– Верно, по луже прошлась, – откликнулась Камилла. – Вечно ты из мухи делаешь слона!
Ален посмотрел на сухой синий вечер за окном.
– По луже? Откуда еще лужа?
Он повернулся к жене, неузнаваемо подурневший из-за широко раскрывшихся глаз.
– Ты не знаешь, что значат эти следы? – Голос его звучал резко. – Не знаешь, конечно. Это страх, понимаешь? Страх. Пот от страха, кошачий пот – другого у них не бывает… Значит, она испугана…
Он осторожно поднял переднюю ногу Сахи и осушил пальцем мясистые подушечки, потом высвободил из шёрстки живой белый чехол, куда убирались втяжные ногти.
– У неё когти обломаны… – говорил он как бы про себя. – Она пыталась удержаться… цеплялась… скребла по камню, стараясь зацепиться… Она…
Он смолк, взял кошку под мышку и унёс, не говоря ни слова, в ванную.
Оставшись одна. Камилла напряжённо прислушивалась, сплетя пальцы рук, и казалось, что руки у неё связаны.
Послышался голос Алена:
– Госпожа Бюк, у вас есть молоко?
– Да, сударь! В холодильнике.
– Так оно ледяное…
– Я могу подогреть на плите… Минутное дело… Вот, пожалуйста… Это для кошки? Она не захворала?
– Нет, она… – Ален запнулся и продолжал уже другим голосом: —…Ей не очень хочется мяса в такую духоту… Спасибо, госпожа Бюк. Да, вы можете идти. До утра.
Камилла слышала, как муж ходит по кухне, как полилась вода из крана: Ален готовил пищу для кошки и наливал ей свежей воды.
Рассеянный полусвет, отбрасываемый металлическим абажуром, падал на застывшее лицо Камиллы – одни глаза медленно двигались.
Ален вернулся в комнату, рассеянно подтягивая кожаный пояс, и сел за стол чёрного дерева. Он не позвал Камиллу, и она заговорила сама:
– Ты отпустил госпожу Бюк?
– Да. Я поспешил?
Он закуривал, скосив глаза на огонёк зажигалки.
– Я хотела сказать ей, чтобы завтра она принесла… Впрочем, это не так уж и важно, можешь не извиняться.
– Я не извинялся, а нужно было бы.
Он подошёл к распахнутому окну, глядя в синюю ночь. Он внимательно прислушивался к внутренней дрожи – пережитое волнение отношения к этому не имело, – к трепетанию сродни глухому предупреждающему тремоло оркестра. Над Фоли-Сен-Жам взлетела ракета, лопнула, раскидав святящиеся лепестки, и, по мере того как они горели один за другим, синяя ночь обретала покой и пыльную глубину. Когда в парке Фоли-Сен-Жам раскалённым добела светом зажглась горка с пещерой, колоннада и водопад, Камилла подошла к Алену.
– Гулянья? Давай подождём салюта… Слышишь? Гитары…
Он не ответил, поглощённый внутренней дрожью. По рукам бегали мурашки, ноющую поясницу точно булавками кололо. Он чувствовал ту отвратительную слабость, обессиленность, которую испытал в школьные годы после спортивных соревнований, бега или гребли. Он уходил тогда злой, равно безразличный к победе или поражению, дрожащий от возбуждения и разбитый усталостью. Лишь часть его души пребывала в покое – та, что не тревожилась более о Сахе… Прошло уже много – или совсем мало – времени с тех пор, как, увидев обломанные когти Сахи и её безумный испуг, он потерял представление о времени.
– Это не праздничный салют – скорее танцы, – сказал он.
По тому, как Камилла пошевелилась рядом с ним в темноте, он догадался, что она уже не ждала ответа. Осмелев, она подошла ближе. Он чувствовал, что она подходит без опаски, увидел бок белого платья, обнажённую руку, лицо, поделённое надвое правильным маленьким носом – на половину, жёлтую от света комнатных ламп, и половину голубую, тонущую в светлой ночи; и в той и другой стороне – по большому резко мигающему глазу.
– Да, танцы, – согласилась она. – Это не гитары, а мандолины… Слушай!..
Серенады звучат… под балконом кра-са-виц…
На самой высокой ноте голос у неё сорвался, она кашлянула, как бы извиняясь.
«До чего же тонкий голосок! – поразился Ален, – Что случилось с её голосом? Ведь он у неё такой же мощный, как глаза! Она поёт голосом маленькой девочки и не вытягивает нот…»
Мандолины смолкли, ветром донесло одобрительный гул голосов и рукоплескания, некоторое время спустя взлетела ракета, распустилась зонтиком из сиреневых лучей с повисшими над ними каплями яркого огня.