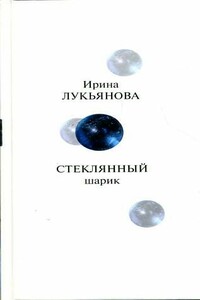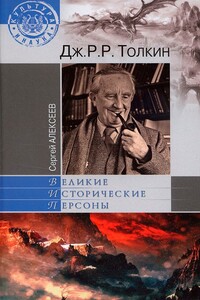Здесь я покоюсь, Филипп, живописец навеки бессмертный,
Дивная прелесть моей кисти – у всех на устах.
Душу умел я вдохнуть искусными пальцами в краски,
Набожных души умел – голосом бога смутить.
Латинские строки звучали эпитафией мастеру; слушатели «в шапках» не понимали, не догадывались. Чуковский понимал: Блок прощается.
«Вызвав нескольких знакомых барышень, я сказал им: чтобы завтра были восторги. Зовите всех курсисток с букетами, мобилизуйте хорошеньких, и пусть стоят вокруг него стеной. Аплодировать после каждого стихотворения».
Блок без конца повторял: «Какого черта я поехал?»
Следующий вечер задался куда лучше: явились и девушки с цветами, и студенты с восторгами, и Чуковского слушали хорошо – «и Блок читал, читал без конца, совсем иначе—и имел огромный успех». На эту лекцию пришел Маяковский. К. И. заметил: «Все наше действо казалось ему скукой и смертью». Маяковский потом написал об этом вечере: «Я слушал его в мае этого года в Москве: в полупустом зале, молчавшем кладбищем, он тихо и грустно читал старые строки о цыганском пении, о любви, о прекрасной даме, – дальше дороги не было. Дальше смерть».
В «Доме печати» некий товарищ Струве, из бывших декадентов, а ныне пролеткультовец, так и брякнул во всеуслышание: «Товарищи! Я вас спрашиваю, где здесь динамика? Где здесь ритмы? Все это мертвечина, и сам тов. Блок – мертвец».
Блок, сидевший за занавеской, сказал Чуковскому: «Верно, верно. Я – мертвец».
В «Итальянском обществе» и Союзе писателей «публика слушала Блока влюбленно. Он читал упоительно: густым, страдающим, певучим, медленным голосом». Через день Чуковский и Блок расстались навсегда; в Петроград возвращались порознь.
В мае К. И. получил от Блока письмо с отчаянными строчками: "…сейчас у меня ни души, ни тела нет, я болен, как не был никогда еще: жар не прекращается, и все всегда болит… Итак, здравствуем и посейчас – сказать уже нельзя: слопала таки поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка".
Чуковский продолжал работать над статьей, думать о Блоке, читать его. 6 августа, накануне смерти поэта, записывал, что книга Блока лежит у него на столе, но все вокруг мешает заниматься этой работой, которая кажется никому не нужной…
Прощанием, бесконечной любовью и тоской проникнуты и дневниковые строки, и воспоминания о последних годах жизни Блока в статье Чуковского.
Тоской не только о Блоке – тоской о тайной свободе, уходящей вместе с поэтом в ночную тьму.
«Уже растет зеленая трава…»
Еще в феврале Чуковский ездил вместе с Добужинским в Холомки, бывшее имение князей Гагариных под городом Порховом в Псковской губернии, чтобы договориться о размещении там и в соседнем имении Новосильцовых «Вельское устье» летней колонии Дома искусств. Добужинский, давний знакомец Гагариных, спасал художников с той же энергией, с которой Чуковский – литераторов; и в Доме искусств, и в Холомках между ними шло своеобразное соперничество: каждый лоббировал интересы коллег, каждый приглашал сначала в ДИСК, потом в Холомки «своих», ссылаясь на то, что плоды мучительных трудов и организаторских усилий достаются всякий раз «чужим».
Гагарины продолжали жить в своем доме, на который Луначарским была выдана охранная грамота. Землю их отдали крестьянам, которые, впрочем, относились к бывшим господам с уважением.
Первые впечатления Чуковского от русской деревни оказались сильными. Не в том дело, что его накормили и приветили (вечно голодный Корней Иванович едва не всякий раз, как бывал сыт, с изумлением отмечал этот факт в дневнике; в первой же холомковской записи читаем: «Давно я не был так сыт, как теперь. Пью молоко, ем масло!!! От непривычки – тяжелею очень»).
Главное-то, конечно, в том, что он, крестьянин по паспорту, объездивший полстраны с лекциями и побывавший за границей, фактически впервые в жизни увидел крестьянскую Россию, с которой был хорошо знаком заочно – по русской литературе. Даже первые впечатления были немножко литературными: крестьянка «говорит как в романе»; «а какой язык, какие слова…». Сразу сложился план привезти в деревню детей: им это будет полезно. «Русский поэт должен знать Россию, – писал К. И. несколько позже сыну Коле. – А Россия – это деревня. Я затем и потянул вас сюда (причем вы все тоже сопротивлялись), чтобы показать тебе (главным образом тебе) русскую деревню, без знания которой Россию не понять».