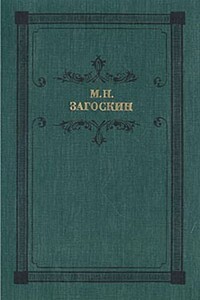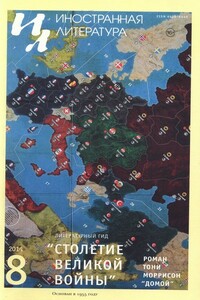Граф. Это партер, вечная опора господ авторов. Как будто рукоплескание партера что-нибудь значит!
Князь. Это бы ничего, мой милый; но вообрази, до какой степени вкус публики испорчен — я сам видел, что аплодировали не только в креслах, но даже и в ложах!
Изборский. Видишь ли, граф, твоя эпиграмма солгала.
Граф. По крайней мере я не аплодировал ни разу и проснулся только в пятом акте от фейерверка[12], которым, как кажется, сочинитель хотел поразогреть свою пьесу.
Княгиня. Поразогреть свою пьесу — как вы злы, граф! Поразогреть! Как это остро! Мне досадно, что автор вас не слышит; я уверена, что это поразогреть было бы ему совсем не по сердцу.
Граф. Я намерен против него кой-что написать. Стихов я не сочиняю, но какую-нибудь сатиру в прозе. О! сударыня, если б вы знали, что у меня есть в голове...
Князь(играя). Гранд-мизер парту.
Изборский. Пиши что хочешь: и прозой и стихами, а со всем тем комедия прекрасна; она делает честь нашей словесности. Я нахожу даже, что в ней есть места, достойные Мольера.
Граф. Достойные Мольера — ха, ха, ха! Мольера, который восхищает и французов!
Изборский. Чему ж ты смеешься?
Граф. Я? так — ничему. Достойные Мольера! Это бесценно!
Изборский. Что же кажется тебе тут странным?
Граф. Ничего, совершенно ничего. Достойные Мольера! Это забавно, очень забавно!
Изборский. Можно ли не восхищаться сценой между Пронским и графиней Лелевой?[13]
Граф. Это правда, слушая ее, я зевал от восхищения.
Княгиня. Еще! Нет, граф, мне жаль уж бедного сочинителя! Зевать от восхищения — можно ли быть таким насмешником. Надобно сказать правду, попадись только вам на язычок...
Граф. Вы шутите, княгиня, — будто я так зол! Поверьте, что я...
Графиня(играя). Бет, сударь, бет, — прошу записать.
Граф. Что я гораздо милостивее многих говорю об этой пьесе — послушали бы вы моих знакомых.
Изборский. Я не понимаю, отчего вздумалось тебе и твоим приятелям укладывать нас спать, когда вся публика отдает должную справедливость этой пьесе.
Граф. Послушай, возьмем в посредники г-на Эрастова; он сочинитель, следственно, лучше может доказать, что вчерашняя комедия никуда не годится.
Эрастов. Извините, граф, я не совсем буду согласен с вами. Вы судите слишком строго. В ней проскакивали кой-где места довольно сносные, стихи вообще нельзя назвать совершенно дурными.
Граф. О, не говорите мне ничего о стихах. Сколько ни старался я заметить, но по сих пор не знаю, чем она писана: стихами или прозой.
Изборский. Тем лучше — следственно, стихи так плавно и легко написаны, что трудность размера и ударений в них совсем неприметны.
Граф. Фи, mon cher! как тебе не стыдно! Какие это стихи, если их можно читать так же легко, как прозу?[14] Надобно, чтоб в стихах была всегда какая-то величественная шероховатость, которая придает им вид важный, а особливо в мрачных описаниях. Вот, например, один из моих знакомых читал недавно при дамах свое сочинение: лишь только он начал, то у всех, кто мог его понимать, волосы стали дыбом; в половине чтения сделалось многим дурно, а под конец одна дама упала в обморок и лежит теперь при смерти в горячке. Вот истинно пиитические стихи.
Княгиня. Ну пусть бы обморок, а то горячка! Нет, граф, эти стихи уж слишком хороши.
Изборский. Я до сих пор думал, что ясность есть первое достоинство стихов.
Граф. Ясность! ясность! Вот на чем помешались все эти господа; да знаете ли, что сказал один знаменитый писатель: автор не тем велик, что изъясняет, но тем, что должно в нем отгадывать.
Изборский. Поэтому в «Тилемахиде» каждый стих[15] заключает в себе нечто великое?
Княгиня. Я вижу, что вы хотите замять разговор о комедии, но это вам не удастся. Г-н Эрастов, начали что-то говорить о ее недостатках.
Эрастов. Я бы никогда не кончил, сударыня, и для того замечу только главнейшие: во-первых, вся комедия имеет вид сатиры...
Изборский. Вы позабыли, сударь, Аристотель говорил, что сатира сделалась тогда поучительнее[16] когда ее стали представлять на театре в виде комедии.
Граф. Аристотель говорит! Прекрасное доказательство! Аристотель мог быть учителем своих римлян, но мы...