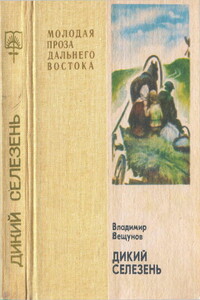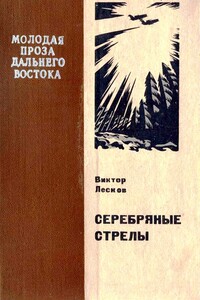— Но-но, Михайлов! — построжал Толька. — Дисциплину не забывай. Марину проверять не надо, а Петрака сам буду навещать. — Он курил, косоротился от крепкого самосада, а Клавка глядела на него с обожанием, таяла. — Вы что, уголовники, удумали подвешивать? По выговору влепить!
— Влепи, Толя, влепи, — подхватила Клавка. — Михайлову, он прокудной. Воронов не виноват.
Мишка уставился на Клавку, зло улыбнулся:
— А я еще не комсомолец. Билета-то нет. Мало что вы приняли. Вот возьму и не поеду в район за билетом, — пригрозил он и победно оглядел всех.
— Играть, Михайлов, не будем. — У Тольки раздулись ноздри — признак гнева. — Дел у нас много — не до игры.
Ходит Толька, руки в карманы, задумался.
Ветры выдувают снег, обнажают озимые. Весной, когда сойдут снега, будут по зеленому желтеть плешины, пока не поднимется сорняк в одиноком раздолье, зажиреет и пойдет, поглядывая свысока на хлеба, по всему полю. Нужно задерживать снег. Чем? Ясно, лопатой. Ставить на попа снежные плиты. Кто? Комсомольцы. Больше некому. Когда? В Козлихе никто не знает, когда четверг, когда воскресенье. Что такое выходной? А кто его знает. Сколько работает Алешка, не было у него такого чуда, чтобы с утра дома сидел целый день. Может, до войны знали.
Так когда же снег задерживать?
В пять утра застучит бригадир Диденко в окна, а сеновозы еще от мороза не отошли, стонут во сне.
Едва рассветает, а уже четыре воза темнеют за огородами, на озере. Свалят сено, перекусят в тепле — и опять в степь за шесть километров. Другой-то раз в потемках возвращаются. А Толька с темного до темного кувалдой в кузнице машет. Клавка и учетчик, и счетовод, и сама за восемь километров сводки носит.
Когда же снег задерживать, навоз вывозить? Ночью. Где силенок брать, когда после работы от печки сил нет оторваться? В себе, а где же? Не гибнуть озимым. Не зарастать же полям чертополохом при людях.
Ходит Толька, думает. Алешка на пол присел и только задремал — тут же и он, сказочный человек — Блок. У Алешки будто воз набок свалился. Буря, а он появился из мглы.
— Тяжело, — спрашивает, — мальчик?
— А ты подсоби. Я воз буду придерживать, а ты возьми кнут, быка посеки.
Кнут он взял, а сечь не сечет.
— Не могу, — говорит, — добром надо.
— Бык-то устал, — просит Алешка, — добром тут нельзя. А воз я бросать не могу — коровы подохнут, и я тут пропаду. Секи!
Стоит он, и кудри ему ветром раздувает.
— Злой ты, мальчик. Добро злом не делают. Не буду сечь! — бросил кнут и исчез в метели.
— Много ты понимаешь! — кричит Алешка. — Не уходи, пропаду-у!
— Чего размычался? — трясет Алешку Мишка. Пойдем спать, а то Диденко скоро будить придет.
Алешка озирается непонимающими глазами; лампа на столе, Толька. Клавка…
— Как договорились: ночью после работы, — говорит Толька, а Алешка не знает, о чем это он.
Был конец декабря, а дни были на редкость теплыми. Было пасмурно, тихо, и все время падал снег, мягкий, нежный, как в конце октября. Как говорила Марковна, стояла сиротская погода.
Комсомольцы ночами работали на снегозадержании. Управляющий Стогов, обрадованный таким оборотом дела, захлопотал, стал упрашивать, агитировать тех, кто бы мог хотя бы немного помочь этой четверке.
Вышел кузнец Мирушников, хриплый, задыхающийся, Алешкин отец, одноногий конюх — другая деревяшка, сам однорукий Стогов. «По полчеловека в каждом — вот и полтора», — шутили они. Вышло несколько молодых женщин.
Алешка через неделю почувствовал, что у него слабеют ноги и руки. И когда у скирды, наложив с трудом воза, Мишка скручивал цигарку (он курил, таясь от взрослых), Алешка, укладывая на колени ноющие руки, думал, что он бы цигарку не скрутил — так уставали они.
Потом устоялись морозы под пятьдесят с ветерком-тягуном с севера. Снег стал грубый, как песок, и окованные сани скользили по нему плохо, подрагивая. Тогда и решили ставить концерт.
— Концерт должен быть веселым, — говорил Толька, — потому что жизнь трудная.
Поскольку Клавка пела только любовные песенки, а они всегда с грустью, а Толька вообще серьезный человек и секретарь, то вся веселая часть концерта возлагалась на Мишку с Алешкой. Алешка-то тоже по характеру мягкий, задумчивый и к шуткам не склонный, но не оставлять же Мишку одного.