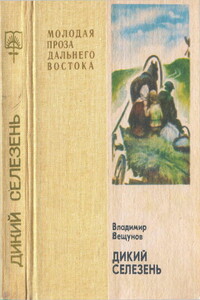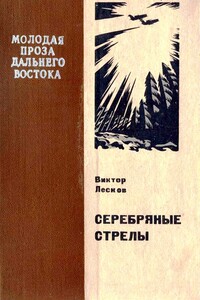Не выдерживает Клавка, кривит в усмешке губы:
— Ты почеши у себя в башке, там перхоти больше, чем у быка.
В другой раз Мишка и ухом бы не повел, а здесь обижается.
— Вступи к вам в комсомол, будете ругать зря.
На миг его глаза делаются печальными.
Толька пресекает Клавку и опять ведет речь о больших делах комсомола. Мишка непреклонен. Тогда Толька выбрасывает главный козырь.
— Вот друг твой и напарник Алексей Воронов вступил. Чем ты его хуже?
Но Мишка легко бьет его козырь. Он сверкает глазками туда-сюда, гигикает, как жеребенок:
— Вступил, а на быков матерится. Нешто комсомольцу можно материться?
Толька опять трет лоб.
— Конечно, нельзя, особенно в обществе. Но… в исключительных случаях… когда в степи один… А бык — скотина противная… — делает Толька уступку.
Мишку в тот раз так и не сагитировали. Но через два дня он подал заявление, где было написано: «…хочу быть в передовых рядах…» Сагитировать Мишку смог Алешка, когда они ездили за сеном.
— Записывайся, Мишка. Сторожей будем проверять. Дед Петрак спит на дежурстве, а молодняк заваливается и дохнет.
Мишка слушал заинтересованно, а потом стал фантазировать, как они «накроют» спящего Петрака:
— Ведро ему на голову да палкой как бабахнуть!
— Или дерьма в тулуп сунуть, — перебивал Алешка, и они смеялись, представляя заранее, как они отучат Петрака спать на дежурстве.
— Коровин овес ворует из склада? Ворует, — вдохновлял Алешка. — А попробуй поймай. Он те морду набьет, а комсомольца не посмеет тронуть.
Строили планы, как поймают с овсом Коровина.
И Мишка вступил в комсомол, не очень-то думая о великих делах строительства социализма и о том, что комсомолец действительно личность Значительная.
Алешка с Мишкой приезжали в сумерках с сеном. Алешка, усталый и наморозившийся, садился у горячего обогревателя, брал толстую потрепанную синюю книгу и, прежде чем начинать читать, всегда долго смотрел на портрет, что на титульном листе. Александр Блок! Какое звучное, неземное имя! И лицо вдохновенное, запрокинутое, высокий лоб обрамлен кудрями, как венцом. Алешка читал:
О, весна, без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!
Алешка опять смотрел на портрет и рисовал в воображении: залитая солнцем даль, на юге, в Заозерье, кричат журавли, оттуда летят птицы, гуляет теплый ветерок, а он, этот сказочный человек, стоит на взлобке за кузницей в златотканой одежде, смотрит в Заозерье и, встряхивая кудрями, бьет по сверкающему щиту коротким мечом. Мелодичный звон разносится по Козлихе, а он бьет и еще, и еще, и движется из Заозерья к нему весна. Боже мой, неужели на нашей громадной земле, на которой приютилась продутая ветрами и занесенная снегом Козлиха, жил этот человек? Светит семилинейная лампа, мать у печки чистит картошку, отец плетет на лето вентеря, а Алешка читает. На окнах намерз иней, слышится в трубе шорох ветра, а Алешка читает:
Там, в ночной, завывающей стуже,
В поле звезд отыскал я кольцо.
Вот лицо возникает из кружев.
Возникает из кружев лицо.
Скрипит кто-то в сенцах. С клубами пара вваливается Мишка, тараторит:
— Кончай политикой заниматься, айда в контору.
Алешка с неохотой закрывает книгу: конец сказке. Натягивает телогрейку, нахлобучивает баранью шапку. Выходит во двор. Морозно и ветрено, и страшно за тех, кто сейчас в дороге, в степи. И жутко за себя; завтра очень рано он выедет на быках в Заозерье, в эту пугающую холодом тьму.
Небо звездное, с седыми пятнами туманностей. Алешка задирает голову. Ну конечно же, вон и лицо показывается, прекрасное, бледное. Вот скрывается, опять показывается, движется.
— Чего уставился? — толкает Мишка. — Бежим.
Из окна конторы — тусклый свет. Мишка приникает к незамерзшему уголку стекла, подзывает Алешку.
— Целуются.
Мишка прижал нос к стеклу, высунул язык и забарабанил по раме. Клавка с Толькой испуганно оглянулись на окно и отскочили друг от друга.
Зашли, смущенно улыбаясь и пряча глаза. Толька деловито уставился в бумагу, а Клавка передернула плечами:
— Подглядываете, обезьяны бесхвостые.
Толька отрывает взгляд от бумаги.