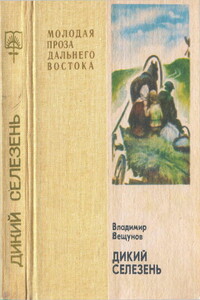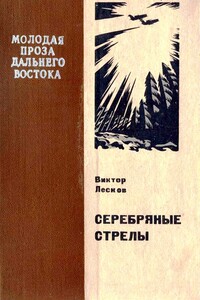— Ловок! Прокурат! — восхищались зрители.
Артист поклонился, а Гришка — рядом, улыбающийся, счастливый. Манька гордилась им: он тоже приобщен к тайнам фокусов. Но когда артист взял длинное шило и стал подносить к Гришкиной щеке, Манька напряглась, побледнела.
— Не давайся, Гриша! — невольно вырвалось у нее.
Люди, увлеченные зрелищем, не слышали ее крика, только артист бросил на Маньку цепкий, улыбчивый взгляд; ничего, мол, — да учительница не смотрела на сцену, а с интересом и ненавистью разглядывала Манькино лицо. Вот Манька вся подалась вперед, готовая кинуться, оградить Гришку от беды: как ни верти, а страшно — шило-то. Шило с хрустом вошло в щеку, конец из другой показался. Артист выдернул шило — Гришка улыбался.
— Ох-ох! — вздохнули зрители.
— Твою матушку, — сокрушался Яков. — Пырнул, и хоть бы хрен! — Он забыл о воздержанности, что явно помешает его авторитету всезнающего человека.
Шумно вывалили из школы. Гришка ушел провожать учительницу.
Манька сидела на лавочке у дома, Затихла, уснула Бакмасиха, только светило окно бобыля Мишки-пастуха. Сам он в лугах ночует со стадом, а это не спит артист, определенный к Мишке на ночлег. Не уходила спать Манька. Себе не сознавалась в том, что ждет, когда пойдет Гришка от учительницы домой. Вот и темнеет, идет. Сердце тук-тук, тук-тук. Не услышал бы Гришка.
— Маня, ты что не спишь?
— Тебя жду.
Гришка часто затягивается цигаркой, высвечивает лицо.
— Не надо, Маня, беды бы не нажить. Софья брюхатая уже… — Тук-тук, тук-тук. Гришкины ли шаги? Манькино ли сердце? А звезды июльские падают, а может, это небо слезы роняет, плачет по Манькиной судьбе?
Огонек светит — артист не спит. Зачем Манька идет на огонек?
В хате у Мишки пусто, окна без занавесок. Видит Манька; лампа на грубом столе, артист сидит за столом, седую голову положил на ладони. Не спит, будто в окно смотрит; а что увидишь? Тьма, тьма.
Петухи прокричали первые, громко прокричали, и опять тишина. Артист не шевельнется, глаза открытые, и Манька стоит в тени, смотрит на него. Если за полночь одинокий человек не спит, значит, неладно у него на душе, болит душа, сон отгоняет.
«Что я делаю, что делаю?» — твердит мысленно Манька, а руки ищут в потемках скобу. Двери сильно скрипят. Стоит, освещенная, за порогом. Артист поворачивает голову, смотрит удивленно. Поднялся тяжело, взял за руку, посадил против себя на лавку:
— Что с тобой, Маня? Почему не спишь?
Манька долго рассматривала артиста вплотную. Морщинистое, выбритое лицо, шея белая, в складках, брови кустистые нависли над голубыми глазами. «Совсем старенький», — жалостливо подумала она.
— Сам-то что полуночничаешь? Аль недуг душу крутит?
— Зови меня дедушкой Кириллом, ладно? Меня никогда никто так не звал, а хочется.
— Внуков нету, что ли?
— Нету, никого нету. А тебя я в школе заметил. Умница ты. Только что ты закричала «берегись»? Испугалась?
— Испугалась. Ну-к, думаю, не удастся фокус. — Манька улыбнулась смущенно. — Потом-то я заметила, что шило из пружинки, а к другой щеке ты кончик прилепил.
— Ну-у! — Артист весь подался к Маньке. — Вот это внимание! — Погрустнел, обмяк. — Старость, старость: раньше никто не замечал.
— Ты не горюй, дедушка Кирилла, и сейчас никто не заметил. Это я только. Да я никому не скажу.
— Ну, если не скажешь, тогда я спасен, — пошутил артист. — И все же не зря закричала: любишь Григория? — И поглядел чистой синькой глаз, прямо, кажется, в душу.
— Ага.
— Что ж он с другой-то был?
— А нечаянно у него вышло. Меня он теперь полюбил, да поздно: забрюхатела Софья-то. Жениться будет.
— А ты спокойно об этом говоришь? Это же трагедия!
Артист достал из чемодана кулек, положил перед Манькой.
— Ешь, это печенье.
Манька откусила, закрыла глаза:
— Скусно. Сроду такого в роте не было. Трагедию я не знаю, не слыхала об такой, а спокой, какой уж спокой, дедушка Кирилла, день-ночь маюсь. Прослышала колдун приехал, это ты-то, упрошу, думаю, чтоб Гришку околдовал. А теперь Софья затяжелела — ни к чему. Да и не колдун ты никакой: сам глаз сомкнуть не сможешь. Может, рассказал бы о своем? Полегчает.
Вторые петухи запели, восток стал алеть.