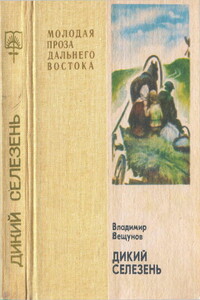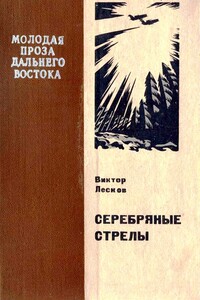— В Калиции… — вторит Лизоренко задумчиво. Лицо у него смуглое, румяное, глаза черные-черные.
— Ить, я тебя убить мог, кум, — отец хлопает Лизоренко по плечу и смеется, радуется, что этого не произошло. — А жить-то хорошо, а, кум? — и обводит руками кругом.
Заря гаснет, березы темнеют на ее фоне, фыркают лошади, и телега скрипит. А у молокозавода красавица Нина Лизоренко поет:
Выходи-и-ла на берег Катюша-а…
— Карашо, — соглашается дядя Коля и улыбается.
— Вот то-то же, — смеется отец, — а мы за винтовки — да в брюхо друг другу…
Шурке тоже хорошо с ними. Не очень понятно, о чем говорят, а интересно. И любит он их обоих. А сейчас Шурка ведет беседу с Лизоренко, как отец. Он стоит — руки за спину, ногой расслабленно в коленке болтает.
— Сел Каурка на ноги-то, дядя Коля? — Шурка окидывает Каурку взглядом сверху вниз. Каурка, старый мерин, злой, кусучий, прижимает уши. Шурка напружился, готов дать стрекача, но выдерживает.
Лизоренко, подливая воду в колоду, хмыкал, показывая белые зубы, не выдержал, расхохотался.
— Смеешься, дядя Коля, а зря. — Шурка обиженно отвернулся и тут увидел: из-за леса на большой скорости, громко сигналя, выскочила полуторка. В кузове Ларька Оленич, Петька Самойлов машут фуражками, кричат не разберешь что. У молокозавода полуторка остановилась, закутавшись поднятой пылью. Бабы в огородах распрямились, смотрят из-под рук, ребятишки сыпанули к машине.
Рыжий, скуластый восемнадцатилетний Ларька, рот шире ворот, орал:
— Германия по нашим городам газует!
Лизоренко выронил из рук бадью.
Люди сходились к машине молча, а Ларька, стоя в кузове, распалялся:
— Надорвет хребтину-то Гитлер! Мы ему сопатку в кровь измочалим!
Вскрикнула, заголосила корявая Варька Скопинцева: дядя Миша, ее мужик, в армии служит. И заговорили наперебой бабы:
— Э-эх, вот и пожили. Ребятишки, бегите в поле. Мужикам скажите.
Бежит Шурка с холщовой сумкой степью, мимо овсяного поля, торопится к отцу. На горизонте облака серые, грозные, и погромыхивает как-то не так, как гром далекий. Будто где-то за степью, лесами гремит кузовом, рокочет машина-гигант.
И жутко Шурке одному в степи. И мнится ему, словно где-то люди кричат, и чем больше он прислушивается, тем громче и жутче кричат они.
Бежит Шурка, пот глаза заливает, и кричать хочется. До отца далеко, а от дома еще дальше. Супу полгоршка расплескал. Когда подходил к отцу, пот вытер рукавом, принял спокойный вид.
— Что ты, сынок?
— Ничего…
— А плакал?
— Война! — Шурка показал в сторону закипающей на горизонте грозы. — Германия газует.
— Кто тебе сказал?
— Ларька кричал… На машине приехал.
— Так… Семка-а! — крикнул отец подпаску Семке Черепанову. — Иди обедать.
Семка в кожаном картузе, ободранном до белизны, и, не глядя на жару, в брезентовом дождевике, сам лет тринадцати от роду, подошел, ткнул кнутовищем Шурку в живот:
— Как живешь, шкет?
Шурка в другой раз полез бы драться, но сегодня до обиды ли мелочной.
— Обедайте да попасете одни час-другой. Я домой сбегаю. Узнаю…
…Через неделю отца уже дома не было. Он ушел на войну вместе со старшим сыном, который работал директором школы в городе.
И в один день как отрубило Шуркино детство. Детская ли, взрослая ли жизнь пошла, но только не такая, как была она и какой быть намечалась.
Семка стал пасти за отца стадо, а Шурка — подпаском, пока осенью не пойдет в первый класс. Мать будила с восходом солнца, и Шурка мучительно думал, поднимаясь, что взрослым быть трудно. Он уже не ходил в лес кормить птенцов, не бродил по своим владениям. Выросла, наверное, без него голодная «содомика», и зайчонок вырос…