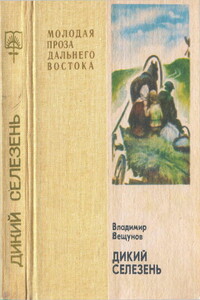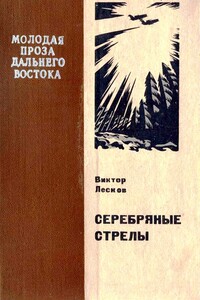Днем навещали отца соседка тетя Даша и медсестра Вера. Она делала уколы и давала отцу таблетки, но он усыхал день ото дня: лечение не впрок. От собачьего сала отец отказался после того, как выпил топленого полстакана и его страшно вырвало. Елкин тогда конфузился, суетился около отца.
— Гляди-ка, не пошло. А ведь первое дело — сало.
Обычно веселый, неунывающий Елкин тогда притих, скрипя деревяшкой, вышел во двор, смотрел на озеро.
— Кончилась война, а люди от нее еще мрут. Не в бою, вишь, погибают. А как же?
Колька на пороге сенец сидел слушал.
— Колька, — обращался к нему Елкин. — Ты вот смышленый, Колька. Видел, как собаки дерутся аль зверье какое ни то. Поцапались и разбежались. Редко до смерти доходит. Почему же люди, Колька, мильенами друг дружку убивают? Все говорят; за хорошую жизнь. А за хорошую жизнь нешто можно человека убивать?
Елкин скрутил цигарку, сел на лавку:
— Крут ты, Колька, будешь головой, вижу. Потому, книжки с отцом вы всё читали. Возрастешь, крепко подумай, об чем я тебе говорю. Я ведь тоже убивал. — Елкин покрутил головой, горько усмехнулся. — Лезет ведь, варнак, за горло хватается. А я его — хрясь! — и крышка. Да разве я б его тронул? Но ты не лезь! Не лезь! — Елкин несколько раз стукнул кулаком по колену, будто бил того, кто лезет убивать за чужое добро.
Колька уставился в Елкина, а потом по-взрослому, баском заговорил:
— Хочешь, дядя Вася, знать, почему лезут?
— Ну, разъясни.
— Потому лезут, что не боятся.
— Вот уж верно! — хлопнул Елкин ладонями. — Ну и калган у тя, Колька.
— Вырасту, такие пушки придумаю, чтоб дальше стреляли, чем у злых людей.
Елкин, склонив голову и приоткрыв рот, с удивлением глядел на Кольку, а тот грозил кому-то кулачком вдаль.
— Вот полезь потом! Хрен полезешь!
— Только не злись, Колька, соленый воин. Злиться нехорошо.
— А я не буду. Я учиться буду и придумывать технику.
— Вот это так.
Елкин поднялся, оглядел подворье — ни курицы, ни поросенка.
— Да, живем, — забормотал Елкин, — что турецкие святые; все имущество — зерен да трубка. Эх, война, война, какую отрыжку дает, язва. — И поскрипел деревяшкой к калитке. — Смотри за отцом. Завтра приду.
…Сегодня, вернувшись с работы, Колька прошел в отгороженную досками вторую половину избы к отцу, спросил, как всегда:
— Ну как?
— Ничего, — сказал отец, а глаза улыбаются, соскучился. — Дух от тебя хороший, сенной.
Колька стоял с трухой в волосах, соглашался:
— Ага. Хочешь на двор? Звезды уж светят.
— Нет, — прошептал отец, и Колька испугался.
До этого он всегда хотел побывать на улице. Сперва Колька его выводил, потом почти выносил с Елкиным, а отец стеснялся и говорил: «Зачем это?» — но радовался. Его клали на постланный на траву тулуп, и он лежал вверх лицом, глядел на звезды. Елкин садился на скамейку, выставив деревяшку, курил. К ночи сухая степь влажнела, струила запахи разнотравья, и отец оживлялся.
Елкин рассказывал про «дырявые» дела деревенские и все спрашивал:
— Как, кум, вылезем?
— А чего ж? Вылезем.
Колька садился на траву, слушал.
— Нам вылазить самим. Нам никто не поможет.
Тихо в Осиновке, совсем тихо. Только дышит тяжело отец, да слышится легкое шуршание не то листьев, не то звезды шелушатся, которых так много, что, кажется, они трутся боками друг о друга и осыпают осколки-шелуху.
— Ночью тоже… В окопе сидел, а перед глазами — Стожары. — Отец приподнял слабую руку, указал на три кряду стоящие звезды.
Колька знал эти звезды: отец учил по ним узнавать время. Сейчас он смотрел на них, а отец рассказывал:
— Лейтенант пробежал, дал команду к атаке готовиться. А я гляжу на Стожары и ничего не помню: ни Кольку, ни Осиновку. Только думаю: конец, отсветили мне. А может, даст бог, жив останусь.
— Чудно, — вздохнул Елкин. — Ты, Гаврила, сроду был чудной. Я перед боем, кроме как о Дуське и детишках, ни о чем не помнил.
— Лейтенант закричал. Страшно, отчаянно, вроде мальчишка, что босой на стекло наступил. Выскочил я из окопа…
— А потом? — тихо спросил Колька.
— А потом? Потом вот… Лежу, смотрю на них…
— Да-а… — вздохнул Елкин, а Колька подумал, что отцу сейчас так же страшно, как тогда в окопе.