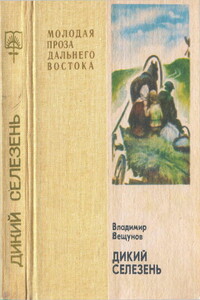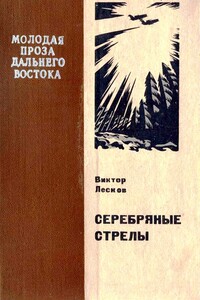— Держи карман шире, — выскочил из-за печки брат Колька, — он тебе еще пряников насыплет.
Отец в бога не верил.
— С пятнадцатого года, с окопов, большевики научились на бога плевать, — говорил он.
Но однажды и он встал на колени перед иконой. Случилось это после того, как он раза три пропил на базаре собранное матерью для продажи масло. Для важности, что ли, он перед иконой встал — не перед печкой же зарекаться.
— В рот капли не возьму, господи. Отсохни язык, коль вру, — говорил он с богом, вроде как с бригадиром Поповым. — Господи.
— В кой раз зарекаешься, кобель лысый, — говорила мать.
— Да замолчи ты, в бога, в чертей!.. Господи…
Братья за животы хватаются. Шурка тоже визжит, не поймет сам с чего, просто весело, но неожиданно получает от матери по загривку. А отец поднимается, в усах усмешка играет.
— Ну вот, — говорит он, — все испортили.
Конечно же, отец после при случае с гостями выпивал, чтобы от души поговорить, сплясать лихо, со свистом, попеть хорошие песни. А перед иконой он становился, должно быть, для балагурства.
…Сидит Шурка на березе. Облака над ним плывут легкие, как и Шуркины мысли, и нет им предела, облакам, как и нет предела Шуркиному детству.
С востока начал нарастать гул. Три больших зеленых самолета со звездами на крыльях пронеслись над головой, аж береза под ними задрожала.
— Ух-х! — задохнулся Шурка от восторга, а по коже мурашки.
Вот бы прицепиться сзади, как за полуторку. Да где, разве удержишься? Самолеты утянули за собой звук плавно, как резину.
Шурке не верилось, что летчики такие же, как и все люди.
Они, наверное, летают и летают и из самолетов выходят редко, чтоб в сельпо взять на питание конфет и пряников. Черный хлеб и щи они, ясно, не едят. Шурка даже улыбнулся тому, что вдруг бы летчики стали есть щи. Смехота! Вот бы посмотреть на летчика!
Шурка в мечте улетает с ним. Сидит в самолете за облаками, правит самолетом, а потом говорит: «Давайте-ка перекусим», — и ест конфеты. А потом пролетит над Буденновкой и сбросит письмо: мол, не ждите, всю жизнь будут летать. Мать, ясно, заплачет, а отец обрадуется, а потом нахмурится: кто ж, скажет, мне обед принесет. Шурке стало жалко родителей, и у него выступили слезы.
— Кар-р-р! — над самым ухом. Шурка чуть с березы не упал. Ворона взвилась, за ней другая. И пошли одна за другой падать прямо на открытую голову. Шурка — вниз. «Свяжись с ними в голоручье — шары повыклюют».
Солнце к полудню: пора обед нести отцу. Шурка вышел на опушку. Сараи — в березняке прямо. Деревеньку лес обступил. Под березой в траве чья-то курица несется. Это Шуркина тайна, и он каждый день выпивает одно яйцо, а одно оставляет для подкладки. Вчера он не навещал гнездо и сегодня выпил два яйца, оттого на душе стало и вовсе благостно.
Вот и его Буденновка: десяток домов, молокозавод, амбары, скотные базы, и все в кучке. Радио грохочет грозными голосами: «Врагу мы скажем, нашу Родину не тронь, а то откроем сокрушительный огонь».
Шурка оглядывает свой дом, прикидывает обстановку. Мать с Колькой и Манькой картошку полют. Лизоренко поит из колоды лошадей. Шурка направляется к колодцу.
— Здорово, дядя Коля! — заговорил он тоном взрослого. — Что-то внутри все жгет. Водицы испить. — Он опрокинулся в глубокую колоду рядом с лошадями так, что рваные штаники обтянулись сзади, обнажив белую ягодицу. Лизоренко плеснул ему на голое ледяной воды. Шурка чуть вздрогнул, но шутку не принял, пил до ломоты в зубах, фыркал по-лошадиному и опять пил. Потом приподнялся, повел взглядом по облакам.
— Что ж это будет, дядя Коля, все сушь, сушь. Попалит все в огородах.
— Та, жарко. — У Лизоренко подергиваются черные длинные усы.
Лизоренко австриец. Его фамилия Лизерехен, но в Буденновке его зовут Николай Иванович Лизоренко. Когда-то давно, в войну с «германцем», он попал к русским в плен и остался навсегда в Сибири. Жена у него, тетя Маша, рыжая чалдонка, две дочери: одна белая Катя, другая смуглая, черноволосая Нина. Шуркин отец зовет его кумом. Они дружат. По вечерам на крыльце курят самосад, беседуют.
— В Галиции-то вы нас чесанули, — говорит отец. — Руки мне там прошили.