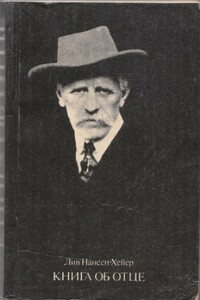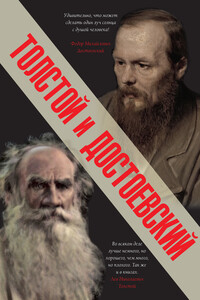У нас в Люсакере — и у детей, и у взрослых — был свой собственный «тон». И не все его понимали. Когда приезжала тетя Эйли, жена дяди Александра, и привозила с собой своего старшего сына Эйнара поиграть с нами, то договориться с ним бывало нелегко. Эйнар был городским мальчиком, а я «беспризорница из Люсакера». Так, не моргнув глазом, он окрестил меня. Позже, когда мы стали старше, игры пошли лучше. Но я так и осталась «беспризорницей из Люсакера». А небрежную речь, которой мы пользовались, он не переваривал. Для тети Эйли, англичанки, понять наш язык было еще труднее. Даже «приличный» норвежский был для нее испытанием, а привыкнуть к норвежскому характеру и норвежским условиям ей было еще труднее. Это пришло много позже. Настроения у дяди Алека — как и у отца — были очень изменчивы, так что ей приходилось нелегко. Позднее я услышала, что мать отца обладала такой же лабильностью и что все ее дети — и от Бёллинга, и от Нансена — унаследовали ее темперамент. Но моя мать умела подбодрить любого.
«Веселей, моя девочка!» — говорила она тете Эйли и подталкивала ее в спину. Да, именно это она и делала! И серьезное лицо Эйли озарялось довольной улыбкой, так что, наверное, это было не так уж плохо.
Тетю Эйли огорчало, что у ее мужа не хватало терпения заниматься детьми. Мама, та примирилась с этим — откуда было отцу взять время заниматься всем на свете? Зато сама она занималась нами как можно больше, была своего рода буфером между нами и отцом.
Каждый день рождения у меня бывали гости — все соседские ребятишки. Среди них были два больших мальчика, которые мне казались особенно интересными. В старшего я, пожалуй, даже была немного влюблена. Он был красив, высок ростом и ничуточки не важничал, хотя был гораздо старше меня. Они были такие воспитанные, говорила мама, и не шумели, как другие ребятишки. Я это запомнила, потому что, мне казалось, гости отца и матери часто шумели куда больше, чем мы. Однажды у нас был Бьёрнстьерне Бьёрнсон, и уж он-то вел себя совершенно невоспитанно, по моему мнению. У нас в доме только что появился новый столовый сервиз — темно-синий фарфор с золотым узором, и мама сказала, что он слишком хорош, чтобы из него есть. Бьёрн тотчас же отодвинул свою тарелку и начал есть прямо со скатерти! Стоя за маминым стулом, я таращила на него глаза. Разве можно так! Но все взрослые только смеялись. «Здорово!» — сказал Эрик Вереншельд[41], сидевший возле матери. Но я была уверена, что Вереншельд никогда не совершил бы такого ужасного поступка. Хотя и он, и другие люди из Люсакера были мастера посмеяться и рассказать что-нибудь забавное.
Вереншельд часто бывал у нас и рисовал меня. Во время работы он разговаривал со мной, чтобы я сидела тихо. Его одного я помню изо всех живших в то время в Люсакере семей. Он уже в 1893 году — наверняка по заказу отца — сделал карандашный портрет матери со мной на руках, который потом отец взял с собой на «Фрам». В том же году он написал мой портрет. Мать и отец подарили его бабушке, а после ее смерти он висел у моих дядей в Бестуме. Я много раз позировала Вереншельду, и он даже разрешал мне провести несколько черточек на рисунке.
Исследователь народной старины Мольтке My[42] — сын Йоргена My — тоже принадлежал к обществу, собиравшемуся в Готхобе. Я считала его своим вторым отцом и очень его любила. По моему мнению, он был так же хорош и добр, как дядя Оссиан, только более общителен и прост. И хотя он был так глух, что нам приходилось кричать у в ухо, не было лучшего собеседника, чем он.
Изо всех праздников в Готхобе лучше всего я помню праздник Святого Ханса[43]. В саду много народу, а бабушка, одетая в национальный костюм, с кружевами, с селье[44], в шапочке, расшитой жемчугом, сидит на ступеньках веранды. Фьорд тих и спокоен, он сверкает, отражая светлое летнее небо. В бухте много лодок, на лодках люди с гармониками, все поют, а над водой белые паруса. Костры на шхерах, костры на нашем мысу, костер за костром вдоль всех берегов.
Отец устроил фейерверк на лужайке перед домом. Он хохочет от радости, когда ракета взлетает вверх, а гости кричат: «О! Ах!» — и следят за ее полетом и взрывом с каскадом звезд. Подымают бокалы с шампанским. Я отпиваю глоток из бокала матери, очень вкусно. Мне запомнилось, как дядя Эмиль Николаусен с бокалом в руке держит речь. В речи все время повторяется «Ева и Фритьоф». Это прекрасная речь. Все чокаются, когда он заканчивает, и кричат «ура». Затем дядя Ламмерс становится в позу, откашливается и запевает «Прекрасная долина, ясное лето», так что сотрясается воздух. Затем они с тетей Малли поют дуэты, из которых мне лучше всех запомнился «Спор между мужиком и бабой». Я и после часто слышала, как они пели этот дуэт, и всегда вспоминала праздник Святого Ханса в Готхобе.