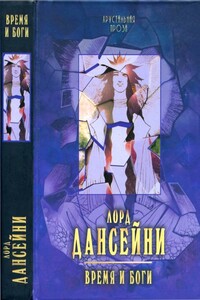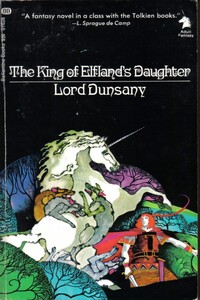Вокруг него не было больше даже мифических зверей, даже странных бесноватых деревьев — ничего, кроме снега и чистых голых утесов, на которых стоял Тонг-Тонг-Тарруп. Весь день он подымался, и вечер застал его на верхней кромке снеговой линии; и вскоре он приблизился к лестнице, вырезанной в скале, и попал в поле зрения вздорного рослого привратника Тонг-Тонг-Таррупа, сидящего и бормочущего забавные воспоминания себе под нос и напрасно ожидающего от чужестранца подарок в виде бэша.
Похоже, что добравшись до ворот бастиона, усталый странник потребовал немедленно поселить его в гостиницу с хорошим видом на край мира. Но рослый привратник, этот вздорный человек, разочарованный отсутствием бэша, прежде чем проводить его, потребовал от чужестранца истории, с тем, чтобы присоединить ее к своим воспоминаниям. Вот, собственно и вся история, если рослый привратник поведал мне правду и если его память ему не изменяет. И когда история была рассказана, ворчун поднялся и, звеня своими музыкальными ключами, отправился вверх, проходя через сотни дверей и подымаясь по сотням ступеней, и привел странника в самый верхний дом, высочайшую крышу мира, и показал ему окно гостиной. Там усталый путник сел на стул и уставился в окно, выходящее прямо на край мира. Окно было закрыто, и в его поблескивающих стеклах вечерние сумерки сверкали и танцевали, то ли как фонари со светлячками, то ли как море; сумерки длились, переливаясь, полные чудесных лун. Но путешественника не занимали чудесные луны. Ибо прямо из пропасти, вцепившись корнями в далекие созвездия, тянулись стебли мальв, и в их окружении маленький зеленый садик трепетал и дрожал, как изображение дрожит на воде; а чуть выше цветущий вереск плыл в сумерках, и подымался все выше и выше, пока сумерки не сделались целиком пурпурными; и маленький зеленый садик далеко внизу завис посреди сумерек. И тот садик там, внизу, и этот вереск вокруг него — все, казалось, дрожало и плыло в звуках песни. Ибо сумерки наполнились песней, которая пела и звенела во всех концах мира, и этот зеленый сад и этот вереск, казалось, мерцали и длились вместе с этой песней, а она звучала высоко и низко, и старая женщина пела ее там внизу, в садике. Шмель пролетал мимо с самого края мира. И песня, что плескалась о берега мира, под которую звезды танцевали, была той самой, что он слыхал от старой женщины давным-давно в долине посреди Северных Вересков.

А один дом на остроконечной вершине глядит за край мира
Но этот ворчун, рослый привратник, он не позволил чужестранцу остаться, потому что тот не принес ему бэш, и бесцеремонно вытолкал его прочь, сам совершенно не заботясь о том, чтобы взглянуть через самое удаленное окно мира, ибо земли, что Время сокрушает и пространства, которыми Время ведает, для старого ворчуна не составляют единого целого, а вот бэш, который он потребляет, воздействует на его сознание сильнее, чем что-либо, что может показать ему человек, как в мире нам известном, так и за его краем. И, горько протестуя, путешественник отправился восвояси, вниз, обратно в мир.
Для человека вроде меня, приученного к невероятному, познавшего край мира, эта история представляет некоторые трудности. И все же, может статься, что разрушения, произведенные Временем, носят лишь местный характер, и что за пределами масштаба его разрушений, старинные песни все еще поются теми, кого мы полагаем умершими. Я пытаюсь на это надеяться. И все же, чем больше я изучаю историю, что рассказал мне длинный привратник в городе Тонг-Тонг-Тарруп, тем более правдоподобной представляется мне альтернативная теория, что этот седой привратник — лжец.
Возвращаясь домой с захваченными в Ломе трофеями, четверо рослых мужчин шли, глядя только вперед, взглянуть налево они не решались — там тянулась закрытая облаками пропасть, а о том, какой она глубины, страшно было даже подумать.
Позади остались дымящиеся развалины Ломы, все защитники которой погибли; никто не мог снарядить за ними погоню, и все же чутье подсказывало им: что-то не так. Уже три дня брели они по узкой осыпающейся тропе, над ними высились отвесные скалы, а совсем рядом — крутой обрыв. Было холодно, в ночной тьме слышался неясный шум — то ли по дну ущелья несся горный поток, то ли доносились порывы ветра; мрачное безмолвие этих мест начинало действовать на нервы, боевой клич врага мог бы взбодрить их; хотелось, чтобы тропа стала шире, вся затея с походом на Лому казалась теперь никчемной.