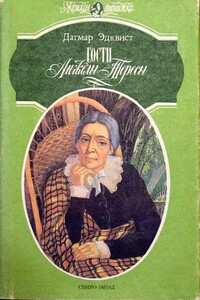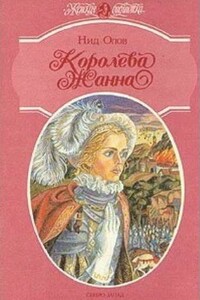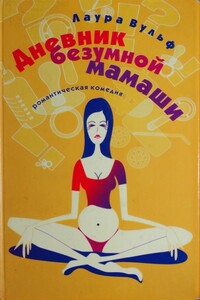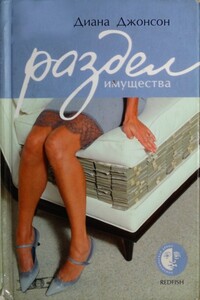— Кампанелла? Эге! — смеется дядюшка. — Милый Николай Юрьевич, вы роковым образом вернулись к социализму.
— Как? — вскрикивает Лика, перегибаясь через стол. — Вы хотите, чтоб государство вмешивалось Даже в личную жизнь?
— Да, да… да! Законы должны оберегать общество от вырождения. Спариваться и любить могут только сильные и здоровые.
— Извините, — перебивает Штейнбах с недоброй усмешкой. — Мы не в конюшне.
Взрыв хохота слышится кругом. Хохочут дядюшка, Климов, Катя, Роза, Лика. Учительница и Соня злобно и громко смеются. Нелидов встает опять. «Ударит сейчас Марка… Ударит!..» — в ужасе думает Маня.
— Ах, чудак! А куда же вы денете любовь? Право выбора? — спрашивает дядюшка. — Вы, конечно, шутите, Николай Юрьевич?
— Я спрошу иначе, — подхватывает Штейнбах, кривя губы. — Что же останется тогда на долю дегенератов?
— О, многое! — вдруг говорит учительница. С такой силой и страстью говорит это она, что все с любопытством оглядываются на нее. — Неужто вы думаете, что кроме этого размножения, что ли, нет у людей других задач? А искусство? А творчество? А борьба за свободу?
— Вы правы. — И в голосе Штейнбаха слышится волнение, понятное одной Мане. — Нормальный человек не откажется от собственности. Не отречется от семьи. Не вступит в ряды социалистов. Не увлечется утопиями анархизма. Это жребий тех, кто судьбою выброшен за борт.
— Эге! — смеется дядюшка и подмигивает Мане.
— Нормальные люди — это толпа, безнадежно мещанская, тупая, себялюбивая. Она ненавидит новаторов. Она камнями побивает пророков. Во всех попытках, во всех порывах человечества к счастью и справедливости — впереди идут дегенераты. Только они — носители прогресса. Они — предвестники зари…
— A la bonne heure![57]
С этим возгласом Нелидов отодвигает стул и идет к хозяйке.
— Как? Вы уже едете?
— Да… Покидаю поле брани, — говорит он с надменной усмешкой.
— Со щитом или на щите? — коварно спрашивает дядюшка.
— Это как вам будет угодно. Я не гонюсь за оценкой «сплоченного большинства», и не боюсь остаться при особом мнении. Думается мне, однако, что эта позиция менее шаткая, чем… роль адвоката вырожденцев… какими бы мотивами здесь ни руководились… До свидания!
Он жмет руку хозяина, отдает всем общий поклон. Взгляд его на мгновение скрещивается с недобрым взглядом Штейнбаха. Он выходит.
Все большими глазами глядят друг на друга.
Горленко, шумно отодвинув стул, спешит за гостем.
Маня улучает одно мгновение, когда Нелидов садится в экипаж. Горленко смотрит на нее, стоя у калитки. Пусть! Теперь все равно.
— Николенька! — с рыданием в голосе шепчет она, кидаясь к экипажу. И протягивает руки.
Нелидов смотрит на нее, как на чужую.
— Я вас не знаю, — говорит он надменно.
Маня лежит в светелке. Все рухнуло. Счастья не будет. Жизнь не имеет цены и смысла.
Внизу галдят, хлопают дверьми. Гремят экипажи. Лошади дерутся и ржут. Гости разъезжаются.
Половицы скрипят под легкими шагами Сони.
— Маня… Ты здесь?… Маня…
— Ну?
— Штейнбах уезжает. Хочет проститься… Ты пойдешь? Нет? Что же ему сказать? Он ждет…
— Скажи ему, что я его ненавижу! Он поймет.
От Нелидова Мане
Вы уезжаете, конечно. И на этот раз я вас не удерживаю. Пусть нас разделят, и чем скорее тем лучше, тысячи верст, разница интересов, жизненных условий, новые встречи, мои заботы, ваши Радости и мои страдания, которые кончатся же когда-нибудь… Уезжайте и никогда не возвращайтесь в эту глушь! Это моя единственная к вам просьба.
Но в память прошлого, которое уничтожить нельзя, я нахожу необходимым объяснить вам мое поведение.
Жениться на вас я считал своим долгом чести, несмотря на все мои зловещие предчувствия. Од этом знала моя мать. Вопрос бил только в том, пойдут ли наши жизни рядом, по одной дороге? Я должен бил ехать за вами, видеться с вашим братом, выяснить характер болезни вашей матери — всю вообще тайну, которая окружает вас.
Не стану лгать. Я так безумно любил вас — до вчерашнего дня, — что готов бил даже презреть предчувствия и угрозы, которые терзали меня весь этот месяц. Готов бил посвятить вам всю жизнь, как первой женщине, которую я полюбил тем чувством, которое не переживаешь дважды.