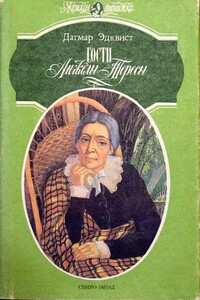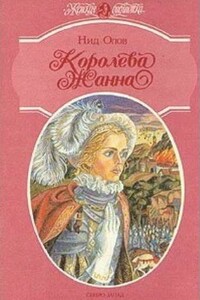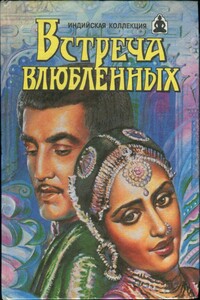— Нет! Нет! Молчите! Я люблю вас, Марк. Я верю в вашу любовь. Забудьте все, что я вам сказала! Я не должна была вам это говорить! Знаете? Я никогда не мечтала выйти замуж… Как-то не думала от этом. Я мечтаю о сцене, об искусстве… А потом Ян так много говорил мне об этом, что, знаете, теперь у меня к браку прямо отвращения. Подумать только, что я должна целовать, когда мне не хочется. Родить детей, когда они мне ни на что не нужны. Не сметь двинуться за границу без разрешения мужа. Вообще от кого-то другого зависеть. О, Боже мой! Что может быть лучше свободы? Я рождена цыганкой, Марк. Так говорила всегда милая фрау Кеслер. И если б я вышла замуж, мой муж повесился бы от негодования. Или выгнал меня из дома. Я ужасная эгоистка, Марк! Я была такою с детства. Обязанности мне ненавистны. Насилия я не выношу… Она задумывается.
— Я все стараюсь вспомнить, Марк, на кого вы похожи? И не могу вспомнить… Ах, да! Вот еще что… — Она отодвигается. — Нынче дядюшка сказал о вас так: «Если б он даже мог, то на что ему жениться? Мало разве красавиц он имел на своем веку?» Что это значит, Марк? Знаете? У меня душа разом мутнеет как-то. И жизнь становится противна, когда я думаю, что вы целуете другую. Постойте!.. Оставьте мои руки!.. И отвечайте по порядку.
— Опять?
— Ну, да… опять… Я все хочу знать! Где она?
— В Вене…
— Какая она из себя?
— Я вам уже отвечал…
— Нет, нет! Я не о жене говорю, а о ней… У всякого мужчины есть о н а…
— Это опять по катехизису дядюшки?
— Отвечайте, пожалуйста, без уловок! Правду!!
— У меня нет никого сейчас… В том смысле, как это принято понимать.
Она с мгновение глядит в его глаза. Потом прижимается к его груди.
— Как это хорошо! Теперь я счастлива. Можете меня обнять! Ой, как больно! Можно подумать, что Меня хотят отнять у вас. Вы даже… Ха! Когти выпустили…
— А разве нет? Разве все кругом не стараются восстановить вас против меня? — с болью говорит Штейнбах.
— Это невозможно, Марк! Когда я была маленькая, я всегда дружила с самыми отъявленными негодяйками, от которых все отвертывались. Мне нравилось покорять их, делать ручными. Вы, кажется, опять улыбаетесь? Я чувствую, как движутся ваши губы.
— Нет, ничего… Продолжайте!
— Чем больше бранят человека, тем он мне интереснее. Ну-с, а теперь… Потрудитесь припомнить, что думали вы год назад, когда ждали поезда в Плисках и глядели на луну?
Ее голос звучит торжественно. Он громко смеется. Как странно слышать! Это его первый душевный смех.
— Ничего смешного нет, — говорит она серьезно. — Я так долго жила этими воспоминаниями! Я так много вложила в эти мечты…
— Сента, — перебивает он, тихонько улыбаясь. — Вы настоящая Сента [37].
— Что такое? — Маня встрепенулась.
— Вы видели оперу Вагнера «Летучий Голландец»?
Маня вдруг вскакивает, хлопает в ладоши и кружится по комнате.
— Нашла… нашла… Вспомнила, на кого вы похожи. Вы — Летучий Голландец…
— Ползучий, — уныло шепчет Штейнбах.
— Как? — Она внезапно останавливается перед тахтой, открыв глаза, полуоткрыв губы, подавшись вперед. Вся — ожидание…
— У моей души нет крыльев… Я — ползучий Голландец…
Маня разражается звонким смехом. Она смеется до слез. И все ямочки ее тоже смеются. Легко, как кошка, она прыгает на тахту и обвивает руками шею Штейнбаха.
— Ну, будьте милый! Вспомните! Вы стояли на краю платформы и глядели на луну. А мы крались за вами, как тени. О ком вы думали тогда?
— Не помню…
— Вы не любили тогда маленькую, белокурую, замужнюю женщину? Не любили безнадежно?
— Не помню!
— Боже, какая глупая память! — сердито говорит Маня и ударяет кулаком по подушке. — Ну, солгите что-нибудь! Выдумайте! Неужели вы не видите, как я жажду всего… необычайного!
— У меня нет фантазии… Я скучен, Маня, — говорит он печально.
— И вы не чувствовали, что мы крадемся за вами? Что вы… наполнили всю нашу душу? — Глаза ее вдруг становятся большими и глубокими. — Как странно, Марк! Какая странная вещь — жизнь! Всего только год назад мы стояли в пяти шагах друг от Друга… Такие далекие!.. Бесконечно далекие… И могла ли я думать, что вы… такой гордый и необыкновенный… полюбите меня?..