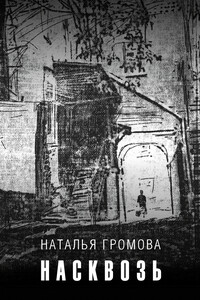Мир фотоснимков отражал жесткое черно-белое содержание жизни. Он смутил путешествовавшего по СССР Андре Жида. Кому-то казалось, что это ангельская бесплотная белизна: худые, болезненные лица, отринувшие всё материальное, с истерическим напряжением пытающиеся заглянуть в будущее, которого нет и никогда не будет.
Судорожная борьба с мещанством, с бытом, с обывателем, с вещами – и у Маяковского, и у Олеши, и у Луговского. Наверное, быт наступал, подчинял. Ведь никогда Мандельштам, Ахматова, Цветаева не боролись с бытом. Им это было не нужно. Их он, видимо, не искушал. И, однако же, был в этом мучительном бегстве какой-то скрытый смысл – видимо, в ощущении глубинной опасности для духа человеческого, в приближении смерти духа, веяние которого они остро ощутили в период нэпа.
Люди донашивали не только вещи – они донашивали литературу и искусство начала века, философию и естественные науки. От прошлого оставались еще живые Андрей Белый и Михаил Булгаков, Макс Волошин и Всеволод Мейерхольд, но все живущие рядом прекрасно понимали, что они осколки, а не целое. Страх отстать от времени, оказаться на обочине. Время уходит. «Классики» и «неоклассики» погибают как растения. Волошин, Парнок, А. Белый не могут здесь жить.
Когда Сталин в начале тридцатых годов начал уничтожать кулаков, политкаторжан, НЭП, краеведов, филологов, биологов, натуралистов, старых большевиков – он как языческий бог хотел убить не только их самих, но и их время. Частично ему это удалось. Люди военного и послевоенного времени были абсолютно не похожи на людей, с которыми их разделяло всего лишь десятилетие. И даже кто выжил и перепрыгнул в следующее время, пытались забыть и стереть с себя налет тридцатых годов. От тридцатых годов оставались только тени.
В Москве можно до сих пор безошибочно узнать дома, где жили в тридцатые, – по обшарпанным дверям с облупленной масляной краской, по каменной паутине стен, по рассыпающимся оконным рамам, по заколоченным ржавым гвоздям, по отбитым ступенькам лестниц. Неровно пригнанные доски, наспех прикрывающие дыры в подъездах, какая-то кособокость и кривизна, идущие от неустроенности и нищеты. От остатков быта тридцатых годов тянет затхлостью, чего абсолютно не скажешь о мраморных лестницах и подоконниках, о тяжелых парадных дверях конца XIX – начала XX века. Их достаточно было протереть чистой тряпкой, и благородный вид дерева или мрамора возвращался мгновенно. Тридцатые годы словно хотели исчезнуть, испариться, превратиться в труху. Но главное в них – абсолютно шекспировские страсти и сюжеты, недооценные до конца литературой. В моей книге, посвященной тридцатым годам, было несколько таких историй, но они приходили снова и снова. Смысл в том, что они могли произойти только тогда. Одна из них была про Александра Афиногенова, автора нашумевшей перед войной пьесы «Машенька».
Талантливый молодой драматург Афиногенов был счастливым человеком: он был обласкан Горьким, с двадцати двух лет в партии, вместе с Киршоном и Авербахом руководил РАППом. Жена его была красавица американка, с ней он жил на даче в Переделкине, откуда ездил в Москву на собственной машине – их было тогда наперечет. Он был человеком очень искренним и наивным, в том числе и в творчестве.
Он написал пьесу «Страх» о том, что интеллигенция почему-то ужасно боится власти. Пьеса некоторое время шла с большим успехом; один из героев в 1931 году со сцены говорил: «Мы живем в эпоху великого страха». Под этими словами могли подписаться и Эрдман, и Булгаков. Но на самом деле Афиногенов просто не ведал, что творил.
Затем он написал пьесу «Ложь» о том, как низовые партчиновники скрывают от начальства правду и как вся система советского производства всё больше и больше строится на лжи. Сталин сидел и лично редактировал пьесу, а потом плюнул и запретил. Горький, которому Афиногенов был как сын, пожурил его в письме, сказав, что такую пьесу надо показывать на закрытых просмотрах, среди проверенного партийного состава. В августе 1936 года началась серия собраний, посвященных троцкистско-зиновьевскому процессу, и на собрании московских литераторов Афиногенов заявил, что он лично готов расстрелять Каменева, Зиновьева и других. Но ему отказали в такой высокой чести.