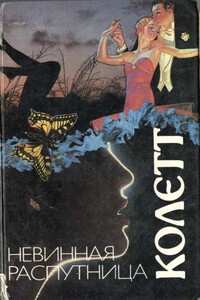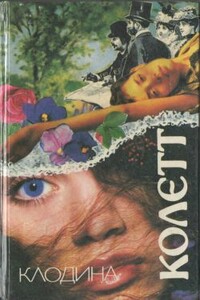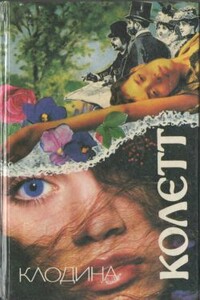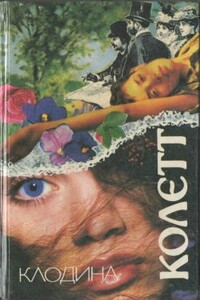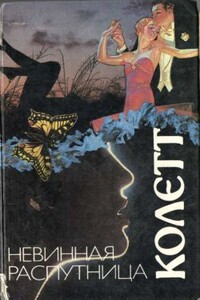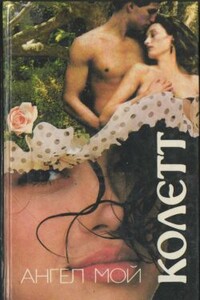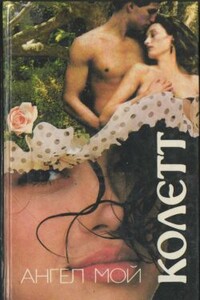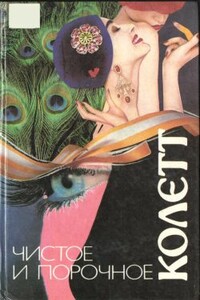Мой приход прерывает трио скрипки, виолончели и фортепьяно, исполняемое главой семейства и двумя его белокурыми дочками. Шум, гам, хозяева вскакивают:
– Вы? Какими судьбами? Почему одна?
– Подождите, дайте сказать. И не сердитесь на меня.
Я им расписываю своё заточение, побег, завтрашние экзамены; блондинки помирают со смеху.
– Ах, как здорово! Только вы способны выкинуть такую штуку!
Папа тоже снисходительно улыбается.
– Не беспокойтесь, назад мы вас проводим и добьёмся, чтобы вас простили.
Какие славные люди!
И мы ничтоже сумняшеся музицируем. В десять я откланиваюсь и прошу, чтобы меня никто не провожал, кроме старой няни. Мы с ней идём по опустевшим улицам при свете взошедшей луны. Время от времени я спрашиваю себя, что-то скажет вспыльчивая директриса.
Няня входит со мной в гостиницу, и я обнаруживаю, что все мои подружки ещё во дворе – занимаются бумажными розами, пьют пиво и лимонад. Я могла бы незаметно проскользнуть в комнату, но предпочитаю устроить небольшую эффектную сцену. Скромно потупив глаза, я предстаю перед мадемуазель, которая при виде меня вскакивает на ноги:
– Откуда вы взялись?
Я киваю на няню, и та послушно произносит свой урок:
– Мадемуазель провела вечер с моим хозяином и его дочерьми.
Потом она что-то бормочет на прощанье и исчезает. Я остаюсь одна (раз, два, три) с… фурией! Глаза её сверкают, брови взлетают вверх и сдвигаются; остолбеневшие девчонки замирают с розами в руках. Глаза у Люс возбуждённо блестят, Мари вся раскраснелась, а дылда Анаис трепещет как струна – у меня сразу возникает мысль, что они немного под хмельком. Право, ничего плохого в этом нет. Мадемуазель Сержан меж тем молчит – то ли подбирает слова, то ли сдерживается, чтобы не сорваться. Наконец она открывает рот, но обращается не ко мне:
– Пора идти наверх, уже поздно.
Значит, гром грянет у меня в комнате? Пусть… На лестнице девчонки глядят на меня, как на зачумлённую. В умоляющем взгляде Люс – невысказанный вопрос.
В комнате воцаряется торжественная тишина, затем директриса суровым тоном осведомляется:
– Где вы были?
– Вы же знаете, у папиных друзей.
– Как вы осмелились выйти?
– Очень просто: сами видите, отодвинула комод, который загораживал эту дверь.
– Какое гнусное бесстыдство! Я расскажу о вашем безрассудном поведении вашему отцу, пусть порадуется!
– Папе? Да он скажет: «Что ж, я знаю, это дитя так любит свободу», – и с нетерпением будет ждать, когда вы закончите свой рассказ, чтобы снова окунуться в «Описание моллюсков Френуа».
Заметив, что девчонки внимательно слушают наш разговор, она поворачивается к ним:
– Ну-ка, все спать. Если через четверть часа у вас в комнатах ещё будут гореть свечи, я вам задам! А за мадемуазель Клодину я снимаю с себя всякую ответственность, пусть её хоть украдут сегодня ночью, если она того пожелает!
Что вы такое говорите, мадемуазель! Девчонки разбегаются, как испуганные мыши, и я остаюсь с Мари Белом, которая заявляет:
– Вот уж правда, тебя не запрёшь! Я бы ни за что не догадалась отодвинуть комод.
– Я в гостях не скучала. Но давай пошевеливайся, а то она явится задуть нам свечку.
В чужой кровати спится плохо. И потом, я всю ночь прижималась к стене, чтобы не касаться ног Мари.
Утром нас поднимают в половине шестого. Мы встаём разморённые. Чтобы немного встряхнуться, я как следует умываюсь холодной водой. Пока я плещусь под умывальником, Люс и дылда Анаис приходят одолжить у меня душистое мыло, открывалку и т. д. Мари просит помочь ей уложить волосы. Умора глядеть на этих полуголых заспанных девчонок.
Мы обсуждаем, как лучше провести экзаменаторов. Анаис переписала на уголок платка исторические даты, в которых она не тверда (мне бы и скатерти не хватило!); Мари Белом смастерила миниатюрный атлас, который умещается в кулаке; Люс поместила на своих белых манжетах разные даты, годы царствований, математические теоремы – словом, целый учебник; сёстры Жобер настрочили массу всякой всячины на тонких полосках бумаги, которые засунули в ручки. Всех нас очень беспокоят сами экзаменаторы. Слышу, как Люс говорит:
– По математике спрашивать будет Леруж, по физике и химии – Рубо, говорят, большой придира, по литературе – папаша Салле.