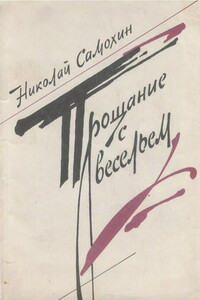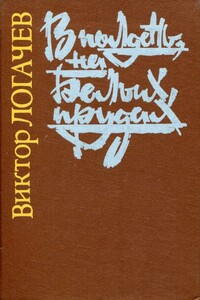Рука не поднималась, под мышкой вспухла железа величиной с голубиное яйцо; она болела, а рука не болела и была тяжелой и неподвижной, словно ее прибили к кровати. Над ним сидел Страшнов и что-то делал с рукой. Ему помогал молодой хирург в пенсне.
– Отрезали? – спросил Демин.
– Пока нет, – сказал Страшнов.
– Отрежьте, – сказал Демин.
* * *
В дежурке Страшнов, продолжая прерванный разговор, сказал Игорю Петровичу, что допуск посетителей в четвертую палату он разрешил в силу необходимости. Человек, может, и машина, но ему всегда нужна связь с миром, а Ганечке нужна вот так, – он чиркнул пальцем по горлу.
– Я понимаю, – сказал Игорь Петрович с улыбкой: очень уж энергичным был этот жест. – Но задерживать ампутацию опасно.
– И все-таки мы должны бороться до конца, ампутация – это последнее, что мы можем сделать.
– Борется сейчас только Демин, а те двое в стороне. Впрочем, положение у них похожее. Я где-то слышал или читал о таком опыте: привязали двух незнакомых собак в разных углах помещения, и, когда одну стали бить, вторая жалобно заскулила, хотя ей даже не угрожали. Опыт, разумеется, жестокий, но результат интересный, вполне согласуется с учением Павлова. Между прочим, Винер, высоко оценивает исследования Павлова, жаль только, что объединяет их с теорией ассоциации Локка, в сущности, механистической...
Игорь Петрович увлекся и не заметил, что Страшнов заснул. Он спал, сидя за столом, уткнувшись лбом в сжатые кулаки, и, когда Игорь Петрович заметил это, ему стало стыдно. Разглагольствует о Винере и Локке, а не подумал, что вчера Страшнов оставался один на все отделение. Его отправил отдыхать, а сам остался. И сейчас здесь. Двое суток. Очевидно, не для того, чтобы выслушивать его теоретические упражнения. Мозг отключился, в действие вступили защитные силы организма, и заснул...
В четвертой палате тоже спали все, кроме Ганечки. Ганечка вечером звонил по телефону и сейчас ждал. Если щипачи не придут, он не побоится мокрого дела, он рассчитается за все, и пускай тогда клеят ему любой срок, пускай вышка, он не отступит.
Щипачи пришли. Они плохо помнили Дипломата и Рокфеллера, но знали Беркута, которого не могли пришить втроем, и знали, что от него им не уйти. Он бросит все, восстановит старые связи и рассчитается с ними, чего бы это ни стоило.
В палате спали. Демин не бредил и дышал вроде спокойно. Врачи умеют сделать так, чтобы человек спал спокойно. Ганечка тоже уснул. Перед рассветом, когда щипачи все сделали. Он уснул сразу же и спал легко, будто лежал в жаркий день на траве в прохладной тени.
Разбудил их мужик с кривой перевязанной шеей. Он вбежал ошалелый, взволнованный, остановился посреди палаты и, кособоча жуликоватую совиную голову, стал рассказывать, захлебываясь:
– И бритва и одеяла целехоньки, как были. Ей- богу! Одеяла – на нас, бритва – в тумбочке... И у вас? Во-от эт-та да-а-а! Артисты! Ей-богу, артисты! И как они спроворили, ума не приложу!
– Они могут, – сказал Ганечка, зевая. – Они не то еще могут.
– Нам уж другие одеяла дали, а они вернули. Вот дурачки! Если рыбу в речку кидать, зачем ломить? Ей-богу, дурачки?
– Ну, ты, сундук! За ум тебе шею-то свернули? Дуй спать!
– И окошко-то ведь закрыто было, и разговаривали мы долго, а вот поди-ка... И чего они так, а? Совесть заела, что ли?
– Да ты заткнешься, мать твою...
Ганечка схватил костыль и, когда мужик, шлепая туфлями, выскочил в дверь, радостно засмеялся. Все утро он не мог унять своей радости, хохотал над «Тремя мушкетерами», называл их осликами, задирал Сергея, рассказывал блатные анекдоты.
Демин лежал безучастным. У него снизилась температура, как она всегда снижалась по утрам, но незначительно, и облегчения не наступило. Черты лица стали заостряться, лихорадочные пятна не сходили, он глядел перед собой отсутствующим взглядом, слушал дурачества Ганечки и ничего не понимал. Он как бы выключился из мира и жил отдельной от всех жизнью. Вряд ли это была жизнь, это было что-то другое – медленное, холодное, длинное. Оно не пугало Демина, ему все стало безразличным, пропали всякие желания, он о чем-то думал, но мысли, едва возникнув, расползались и пропадали, их заслоняли другие, тоже неопределенные и неуловимые, и, если бы его спросили, о чем он думает, вряд ли бы он ответил.