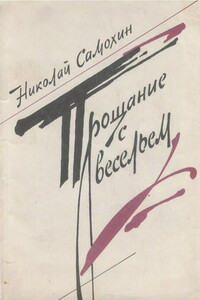И когда его уносили в операционную, ему все было безразлично. Он видел озабоченные лица Сергея и Ганечки, они сидели на постелях и глядели на него, видел свою койку, скомканные простыни, одеяло на полу, но все это не имело к нему никакого отношения. В дверях над ним склонилось морщинистое маленькое лицо матери, и он не удивился и не обрадовался, а только отметил, что она стала меньше, усохла. «Да бог с ней, с рукой, – говорила она торопливо, – сам бы жив остался, бог с ней».
И только когда его положили на операционный стол, когда он увидел чистое небо с этого стола, он оживился и... потерял сознание.
XI
Солнце косо било в окно сквозь крону тополя, и на полу лежали серебряные зайчики. Они лежали неподвижно, они грелись, не шевелясь, – наверно, на улице было тихо.
Ганечка сидел на постели и махал руками, делая гимнастику.
– В здоровом теле здоровый дух, – сказал он, заметив, что Демин открыл глаза. – Двадцать часов ты проспал. Силен! Я думал, в ящик сыграешь.
Демин хотел поднять руку, но не смог: руки не было. Рукав рубашки пошевелился рядом, пустой и легкий.
– С мамашей твоей вчера беседовали, – сказал Ганечка. – Если бы у меня была мать...
Демин глядел на пустой рукав.
– Страшнов телеграмму ей дал, а военком привез на своей машине.
Демин слушал.
– Она скоро придет, – сказал Ганечка. – Она в нашем общежитии ночует, Маша ее увела.
Сергей спал, уткнувшись лицом в подушку. Одеяло и простыни сбились на пол, и он лежал совсем голый.
– Я его покрою, – сказал Ганечка, спустил ногу с кровати, подперся костылями и проворно заковылял к Сергею.
– Какая Маша? – спросил Демин.
– Подруга моя, – сказал Ганечка. – Любовь!
Он допрыгал до своей койки, сел и убрал в тумбочку вчерашние газеты с большими фотографиями и крупными заголовками через всю страницу: потом Демин прочитает.
Сергей проснулся и сел на постели.
– Фу-ух, – облегченно вздохнул он, протирая кулаками глаза совсем по-детски. – Приснится же такие! Здоровый был, никаких снов, а тут... На лошади будто ехал – деревянная лошадь, мочальный хвост – и Таню сбил. Сбил ее, а она смеется.
– Думал, вот и приснилось, – сказал Ганечка.
– Не так же я думал. – Сергей посмотрел на Демина, на смятый белый рукав поверх одеяла и отвел взгляд. – Сегодня она придет. Я вчера передал, чтобы пришла с утра.
– Хорошо, – сказал Ганечка.
Демин вспомнил вчерашний день, лобастое потное лицо Страшнова, острое пенсне ассистента. И еще себя, распятого на столе, вспомнил, но себя он видел недолго, один миг и со стороны, будто на столе лежал не он, а кто-то другой, а он стоял рядом и наблюдал.
Вместе с осознанием свершившегося он почувствовал облегчение, как это всегда бывает после напряженного ожидания, но с облегчением явилось страшное ощущение пустоты, будто вместе с рукой у него отняли весь мир. Этот мир был рядом, раздражал, требовал внимания и проникал в него независимо от его воли.
– Ребята были что надо, – говорил Ганечка. – Дружные, сильные, один к одному. Трое их было: Атос, Портос и Арамис. А четвертый был Д’Артаньян, самый смелый.
– Ну и что? – спросил Сергей.
– Ничего. Веселые были, друг друга в обиду не давали.
Вот так после пожара бывает: стоит на месте дома печь с обгорелой трубой, а вокруг только пепел, зола да груды тлеющих углей. Все сгорело дотла. Бродит по пепелищу хозяин, разгребает палкой золу и устало думает, что надо собираться с силами и начинать строиться заново.
– А этот Ришелье, кардинал ихний, культ личности насаждал, сам король его боялся. Правда, глупый был король, тряпка.
– Замолчи, – сказал Сергей, – без тебя тошно. Как я ей скажу, ну как?!
– ...Нерешительный и глупый он был, как тряпка. Королева его не любила, кардинал обманывал – так ему и надо. Зато мушкетеры... мушкетеры были огонь! Баб любили, вино пили и дела не забывали.
– Замолчи!
– А чего? Да ты не кривись, бродяга, ты же сам мушкетер! Скажи, что любишь Лиду, и все... Эх, Серега, любовь ты моя беспартийная! Все мы мушкетеры, кто сперва, кто опосля.
– Трепло, – сказал Сергей и накрыл голову подушкой.
– Выйду из больницы и сразу в заводскую кассу: а подай-ка мне, Марья Петровна, полкуска честных, трудовых! И Марья Петровна отсчитывает. И знаешь ли, миленок, что я делаю? Я покупаю десять будильников, кладу их в сумку, и тут мои щипачи – хрясь, хрясь их по черепам: рвите, гады, Беркут завязал.