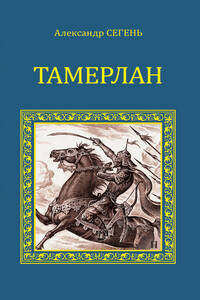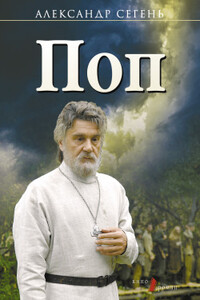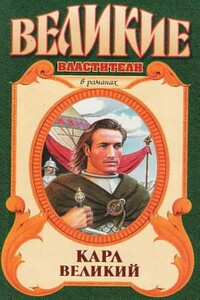Десять дней подряд слон безумствовал в слепой и необъяснимой ярости; ноги его покрылись кровоточащими потертостями от веревок, коими он был привязан к мощным столбам, ибо он не переставая рвался с привязи, и один из столбов даже начал пошатываться при каждом новом рывке. Если бы яр продлился еще неделю-другую, столбы, глядишь бы, и рухнули, но, к счастью, бешенство стало стихать, промельки рассудка, как первые весенние ростки, прорезались в уме Цоронго Дханина. Еще три дня он беспокоился, но все меньше и меньше. Наконец стал принимать пищу.
Вместе с блаженной радостью, разлившейся по всему его слоновьему существу, когда разум вновь озарил душу, пришел и стыд за все: страшное безобразие и беспокойство, причиненное людям, и больше всего было стыдно перед добрым Ньян Ганом, который теперь бережно залечивал раны слона на ногах. Особенно жгуче залило сердце Цоронго Дханина стыдом, когда в какой-то вспышке воспоминания о днях яра слон увидел, как его бивень осатанело пролетает перед самым лицом Ньян Гана, и Ньян Ган лишь в последний миг успевает увернуться и спастись от страшного бивневого острия. Да ведь он мог снести ему голову! О, если бы сейчас, образумившись, он вдруг узнал, что убил лучшего и преданнейшего своего друга! Сердце его лопнуло бы от горя. Но, слава Богу, Ньян Ган был невредим, и они снова проводили дни вместе, дружно и благопристойно. Вновь вернулись утренние прогулки по Читтагонгу, полуденные купания в искусственном озере на площади перед царским дворцом, вечерние развлечения в государевом саду, забавы и фокусы, придумываемые для слона Ньян Ганом. Лишь иногда Цоронго Дханин вспоминал о днях безумия, и горечь стыда ненадолго затапливала его душу.
И еще порою вспоминал он о первых минутах начавшегося яра, и тогда в памяти всплывали неприятные лица и запахи тех чужестранцев, о которых он тогда так плохо подумал, возможно незаслуженно плохо. Теперь их нигде не было, и опасения, что они вот-вот снова появятся, не оправдывались. Прошел месяц с тех пор, как миновало ужасное бешенство, и слон потихоньку стал забывать о подозрительных чужаках, решив, что их, наверное, уж и нет в Читтагонге.
Но Цоронго Дханин ошибался. Бенони бен-Гаад со своим сыном Ицхаком и племянником благодетеля Моше Рефоэлом никуда не подевались из столицы Аракана, просто они не имели возможности повидать столь вожделенного ими слона.
Поначалу дни, когда слон переживал свое безумие, складывались для приезжих евреев благополучно. Стараниями мудреца Эпхо Ньян Лиона их приблизили ко двору и стали часто приглашать – то на обед, то на ужин, то просто на какое-нибудь увеселение. Общаясь через переводчика Фоле, старый Эпхо Ньян Лин и знакомый с азами разных наук и философий Бенони вели оживленные беседы о богах и строении мира, о многозначности всевозможных символов и начертаний, об иерархии всего живого и месте человека среди богов, ангелов, зверей, птиц и рыб, о предназначениях демонов и о многом другом, о чем так приятно поговорить с неглупым собеседником. Кан Рин Дханин благоговел перед ученостью своего главного советника, к тому же Эпхо был личным воспитателем его любимца Аунг Рина, и коль скоро старик мирволил к приезжим купцам, то и сам он старался оказать им почет.
Аунг Рин, слыша от своего наставника хвалебные слова в адрес Бенони, тоже старался принимать участие в разговорах, и в конце концов еврею предоставился случай тайком подлить ему в чашу несколько капель чудодейственного зелья. Отрава начинала действовать через несколько часов после ее принятия, и, расставаясь в тот вечер с веселым дворцом Кан Рин Дханина, гости знали, что завтра увидят здесь юдоль тоски и печали. И надежды их сбылись. К полудню следующего дня, когда евреи собирались отправляться во дворец, по всему Читтагонгу разнеслась зловещая новость – принц Аунг Рин, наследник престола и будущая опора государства, сегодня утром был обнаружен в своей спальне бездыханным. Хозяин дома, сдававший комнаты Бенони и его спутникам, первым доложил об этом известии своим жильцам.
Лицо его сияло от возбуждения, и, хотя он пытался сделать вид, будто страшно горюет о несчастном юноше, нетрудно было заметить, что в душе у него отнюдь не горе, а сладостное переживание сенсации.