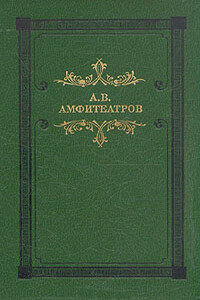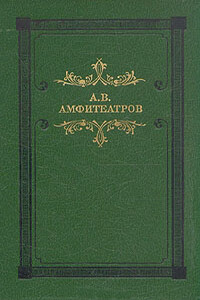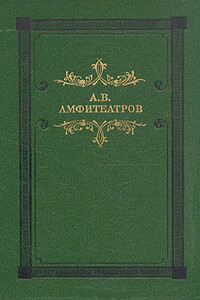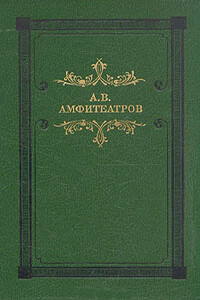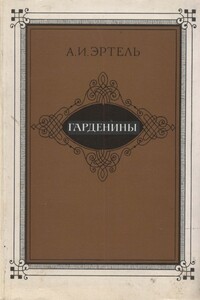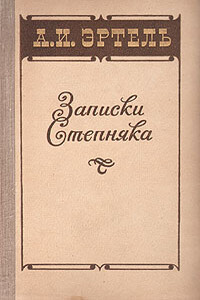Наташа грозно взглянула на Струкова и вдруг рассмеялась: восторженное выражение его глаз чересчур свидетельствовало о том, что он наслаждается звуком ее голоса и разгоряченным лицом и более чем равнодушен и к «Никоновой ереси», и к «древлему благочестию».
— Вот уж я думаю, никогда не слыхал Кью-Гарден таких речей, — сказала она.
— Но как вы это все помните!
— Я дочь своего отца, Алексей Васильич. А потом, вот как придут к нам бывало старички да старушки и просят почитать. И читаешь им про старину, а они, миленькие, плачут и умиляются. Ведь есть вещи изумительные по своей душевной красоте; хоть бы взять письма Аввакума к Морозовой. Я на что крепка — и то слеза прошибала. А читаю я хорошо, истово, с чувством. Ах, создатель, как я любила наши тихие вечера!
— Но сами-то вы, Наталья Петровна, неужели серьезно смотрите на вероисповедные различия?
Наташа, в свою очередь, широко раскрыла глаза.
— Чудак вы, — ответила она, усмехаясь, — я с четырнадцати лет «Русским словом» зачитывалась, — и весело продолжала: — А знаете, кто меня развивал? Вовсе не Петр Евсеич: ему вечно недосуг, он был у меня учитель, из профессоров никонианской семинарии… ой, ой, какая пика!
— И вы, как это бывает, полюбили своего учителя? — с насильственной улыбкой спросил Струков.
— Я? Нет. Я никогда никого не любила. Но он, хитрец, готовил меня в супруги… а вместо того взял да на моей француженке женился. Петр Евсеич дал ей приданое.
— А зачем вы сказали, что было бы лучше запереть вас в светелку?
— Разве я сказала? — с смущением выговорила Наташа и после мимолетного колебания ответила: — Потому что сама не знаю чего хочу… Потому что когда узнаю, не остановлюсь ни перед чем…
— А на пароходе вы согласны были со мной! Вы были за меня, я это видел. Ведь вы согласны, что любовь как это солнце?
— Не знаю… Не встречала такой любви.
Струков прикоснулся к ее руке, и, весь холодея от какого-то сладкого ужаса, прошептал с нежностью:
— Милая моя, разве вы не видите, что я люблю вас именно так, именно такою любовью… — Она молчала, не отнимая руки. — Я люблю вас, — повторил он тоскливо.
— А не боитесь меня? — сказала она своим прежним насмешливым голосом. — Я ведь дочь своего отца: свободу выше всего ставлю.
Но рука ее, обтянутая лайковой перчаткой, так беспомощно дрожала в его руке и так была горяча, что ему почудился совсем иной, не насмешливый, не угрожающий ответ, и с уверенной смелостью он привлек к себе девушку, ища ее взгляда, ее лица, ее поцелуя.
— Друг мой, милый друг мой. Я ничего не боюсь, я люблю тебя, — говорил он, сам не замечая, как музыкально и вкрадчиво звучит его голос.
Наташа положила руки на его плечи, подняла лицо… О, какая на нем торжествующая, радостная и вместе недоумевающая вспыхивала и погасала улыбка!
— Мне кажется, что и я вас люблю… Конечно, люблю! — прошептала она и точно огнем обожгла его губы. Потом выскользнула из его объятий и торопливо пошла вперед, повторяя: — Пойдем, пойдемте… Нехорошо в публичном месте целоваться.
Час спустя они сидели на берегу Темзы. Это было в том идиллическом уголке Кью-Гардена, где река едва движется, отражая в своем зеркале и склоненные над нею деревья, и изумрудную тень изгороди, и потонувший в садах того берега городок с старинным серым замком. Стояла тишина, как где-нибудь в глубине России, и только стучало весло о корму одинокой лодки, да иногда взвизгивал локомотив в отдаленье, и смутно, тем ровным и важным гулом, что бывает в сосновом бору, напоминал о себе огромный город. Дорожка вдоль берега была в этот день так же безлюдна, как и весь парк вдали от теплиц. Редко проходили посетители и раздавался иноязычный говор. Но Наташа не обращала никакого внимания на этих редких прохожих и нетерпеливо хмурилась, когда Струков понижал голос при их приближении, выпускал ее руку, старался погасить влюбленное выражение на своем лице. В ее голосе и словах не было теперь и тени насмешливого задора, в странно похорошевшем лице не было и тени непроницаемости, вся она сосредоточилась в каком-то стремлении и не сводила глаз с Алексея Васильевича. А он говорил о своем прошлом, о своих намерениях, о том, что, действительно, «какой же он ученый!» и что самые затаенные его мечты всегда влекли его в русскую глушь, в деревню, на скромную культурную работу.