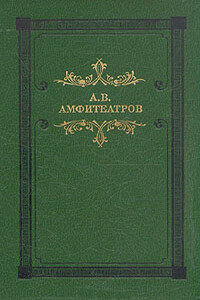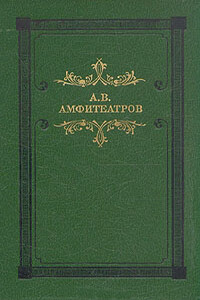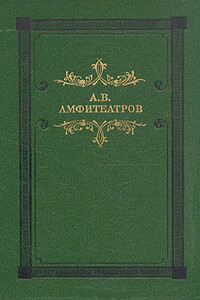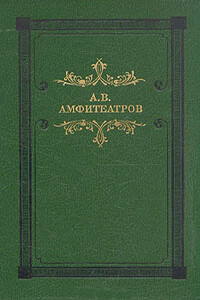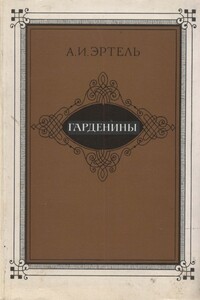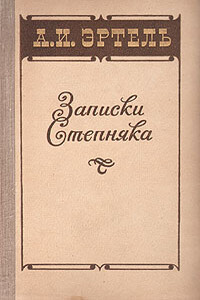— Миленький мой! — прерывала она его, и в этом привычном обращении звучала теперь совсем другая нота. — Миленький ты мой! Это уже решено, и мы воротимся вместе… на матушку-Волгу!.. На Волгу — широкое раздолье, а не в твою мурью — Куриловку… Я ведь тоже никогда не жила в деревне и тоже стремлюсь в нее… А, натворим мы с тобою чудес!.. Но ты расскажи, как полюбил меня. Все мелочи, все подробности расскажи… с самых тех пор, как мы разыскали тебя. Ну, вот я вошла… Или нет-нет, прежде я спрашивала о тебе, и горничная не понимала, а ты услышал мой голос и отворил дверь. Помнишь? Помнишь? Ты мне только понравился, понимаешь ли? Гляжу, — среднего роста человек, глаза печальные, глубокие и такие славные кудри. И все потирает руки, будто от холода… и ласковая улыбка. Но и только, миленький, не хочу тебя обманывать. Потом не знаю… Должно быть, ты зажег меня собою. Ведь это бывает? Да? Бывает?.. А все-таки как я тебя злила, когда ты зажег меня, как мне хотелось тебя злить… И знаешь, когда ты сердился, мне это очень, очень в тебе нравилось… О, мягкостью меня не проймешь, я ведь — «супротивная»! И ты красивее, когда сердишься… знаешь ты это? Вот когда бунтуешь и еще теперь… Посмотри, посмотри на меня: ты сейчас поразительно хорош… А что хорошо это, что я по ниточке могу тебя разбирать, а? О, дорогой мой, Алеша мой!.. Неужели опять идут?.. Противные люди!.. Ну, рассказывай все, все, все… Нет, подожди. Не правда ли как чудно: вдруг мы неизвестно зачем приезжаем в Лондон, знакомимся с тобой, ходим в музеи, в парламент, на митинги, осматриваем все, что обозначено звездочкой у Бедекера, и вдруг женимся. О, какие чудеса!.. Не смотри на меня так, не хочу… Рассказывай. Или нет, миленький, еще секундочку. Ведь это та самая любовь, о которой ты говорил? Мне так хочется ласкать тебя, целовать, обнять тебя крепко, крепко… Ведь та самая?.. Но зачем же Петр Евсеич говорит свое? Неужели и он прав? И любят друг друга, стыдно сказать отчего? И когда погасает кровь — погасает любовь? О, милый мой, это бывает, и как я думала над этим, как мучилась… Я отлично помню, как это было в последний раз с отцом — вот с той француженкой, что вышла за профессора. Какой ведь красавец был мой Петр Евсеич и сколько у него было приключений… И знаешь, дорогой мой, он логичнее тебя… Молчи, молчи, я только о том, что если материя, — понимаешь ли? — то он логичнее тебя, что в твоих рассуждениях есть скачок, на который ты не имеешь права, если только одна материя. Молчи же, Алеша, иначе я не посмотрю вон на тех долговязых, — должно быть, давешние немцы? — и поцелую тебя… Та, та, та, вам, кажется, не нравится, что я так откровенна? И что не похожа на очень благонравных девиц?.. То-то!.. Но я хочу по-твоему любить, я люблю тебя по-твоему, мой желанный… А ты?..
Сколько раз и с какой мучительной ясностью Струков вспоминал впоследствии этот лихорадочно-быстрый лепет, в котором точно искры в дыму не рассуждающей страсти мелькали зловещие сомнения, сквозила неугомонная, мятежная душа. Но теперь он только слышал упоительную музыку признаний, видел только взволнованное лицо, неизъяснимая прелесть которого напоминала ему полузабытое впечатление от какой-то чудесной сказки, и готов был заплакать от счастья… А жемчужные облака отражались в реке; где-то звонко щебетала птичка; зеленели луга и деревья, окропленные сверкающей росою; стояла тишина, как в далекой, милой России.
Было около шести часов. Наташа устала и успокоилась, и шла под руку с Струковым в тихом и кротком настроении. Но, завидя вдали Петра Евсеича, сидевшего на том же самом месте с развернутой книгой в руках, она снова оживилась и шепнула Струкову:
— Ты посмотри, какой милый чудак! Знаешь, давай не сразу скажем ему, а будем при нем на «ты», вот увидишь, он ничего не заметит. — Потом сказала громко: — Жив? Дочитал своего безбожника?
— Скоренько осмотрели, — произнес Петр Евсеич, вскидывая на нее более чем когда-нибудь рассеянные глаза. Затем аккуратно сложил книжку, посмотрел на часы и вскрикнул с внезапной досадой: — Это окончательно выше понимания, как вы долго ходили!