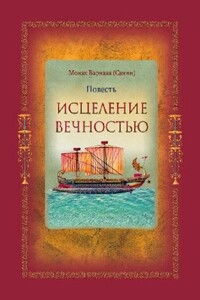Теперь этот худенький, небольшого роста человек с выкрашенной в черный цвет сединой, огромными усами и маленькими глазками, детская голубизна которых придавала самым ироничным его высказываниям безобидный оттенок, историк и философ барон фон Штеттен больше не интересовал горожан, однако были времена, когда каждое публично сказанное им слово вызывало скандал — даже если и в самом деле было безобидным, служа лишь введением к последующей речи или извинением по поводу предыдущих высказываний.
Второй сын в чрезвычайно приличной и добропорядочно-незаметной семье крупного чиновника из старого дворянского рода в начале своей академической карьеры — а было это еще в конце прошлого века — казался всем эдаким умником-недотепой. Однако вскоре выяснилось, что он отнюдь не по наивности задает свои провокационные вопросы и высмеивает освященные традицией взгляды и институты, даже издевается над ними, что он отнюдь не по глупости нападает и на противную сторону — на приверженцев обновленческих реформ. Он бросает вызов всем и вся просто потому, что это доставляет ему удовольствие, говорили одни; потому, что хочет выделиться и прикрыть тем самым свою научную несостоятельность или лень, а заодно привлечь побольше публики, считали другие его коллеги. К ним присоединялось большинство остальных, когда нужно было голосовать против избрания его деканом.
Его диссертация, как, впрочем, и последующие мелкие статьи, вызывала лишь скромный интерес специалистов, круг которых по природе своей довольно узок. Она была целиком посвящена исследованию средневекового хозяйства и его развития, главным образом во Фландрии, в Провансе и Северной Италии. Однако затем сапожник взялся судить выше сапога, в чем его неоднократно упрекали критики. Черт, что ли, его дернул померяться силами с известными экономистами и светилами в области государства и права. Если бы он хоть ограничился вежливой критикой в их адрес после приличествующего их рангу неоднократного упоминания заслуг! Но он сделал худшее, что только можно было придумать: он вообще не упомянул ни их имен, ни работ, как будто не принимал их всерьез. Потом настала очередь его непосредственных коллег, потом — историков-философов. Если считать и мелкие замечания, то его критики не избежал ни один факультет.
Общественное значение, однако, скандал приобрел лишь тогда, когда Штеттен осмелился напасть на императорский дом. При дворе, видимо, решили не опускаться до ссоры с этим назойливым невеждой, его выпад просто проигнорировали, но коллеги не оставили его незамеченным и выразили свое недоумение по поводу недопустимых измышлений профессора фон Штеттена в вежливой, но достаточно недвусмысленной форме.
Объявить Штеттена социалистом было, конечно, заманчиво, но более чем сложно. Хотя он цитировал Маркса, Фридриха Энгельса и даже иногда соглашался с ними, однако его насмешки почти никогда не щадили ни их последователей, довольно многочисленных среди его слушателей, на удивление пестрых по своему составу, ни того политического движения, которое называло себя именем Маркса.
Штеттен был против войны; во время революции он был против революции. Он всегда был против того, «чем как раз упивалась эпоха, чтобы потом иметь основания называть себя великой», как он говорил.
Лекции этого нигилиста привлекли шестнадцатилетнего Дойно; двадцатилетний Дойно продолжал ходить на них, потому что понял, что профессор вовсе не был нигилистом, а всю жизнь по-своему боролся за одну и ту же великую цель. То, что этот студент не соглашался с ним по многим важным вопросам, всегда огорчало учителя, но никогда не отталкивало его. Он так мечтал о полном обращении ученика, что даже сумел стать терпеливым и сдержанным. «Я буду ждать вас, милый Дион, на обратном пути из Дамаска. Досадная ошибка, недостойная вашего ума, сделала вас Павлом. Но вы вернетесь, вы вернете себе свое „я“ — „я“ язычника Савла»[27].
С тех пор прошли годы, думал Дойно. У Штеттена не осталось ни слушателей, ни учеников. Да и этот ученик остался Павлом. Он ждал меня на обратном пути и не дождался, из чего он заключит, что я не вернул себе свое «я».