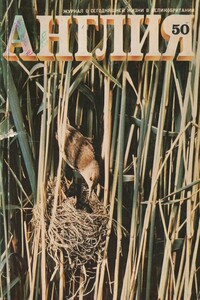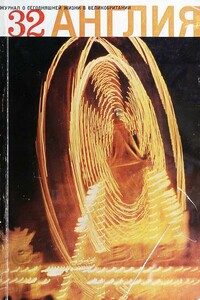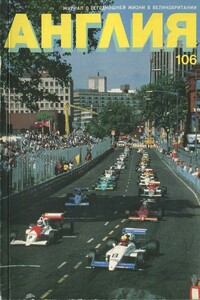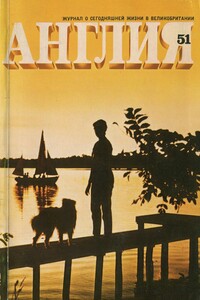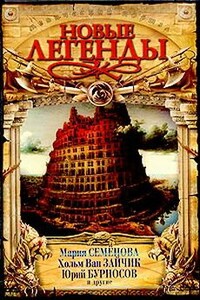— Упаси боже… Я даже не знаю, что для меня было приятней. Вы… да вы просто изменили всё, всё, что касается книги. Мне остаётся только надеется, что она вам понравится, в конечном счёте. Что вы не будете…
— Жалеть? — спросила мисс Рокингэм. — Я всё обдумала и теперь уверена, что приняла правильное решение. Эдварду бы тоже этого хотелось. Жена ведь его уже умерла. Значит, наш последний день — суббота.
— Какое счастье, что ты позвонил. Я так боялась, что не позвонишь. Потрясающие новости. Ты помнишь мою подружку, ту, что играет в оркестре в Олдборо? Она уезжает в субботу и зовёт к себе. Там у них коттедж, и мне найдётся, где переночевать.
— У меня слов нет. Просто замечательно.
— Так как ты думаешь? Мне…
— А комната большая?
— Ну… думаю, что да.
Оставалось ещё семнадцать писем. Он прочёл их по порядку, одно за другим, все до единого. Три последних были написаны в частной лечебнице, где Лэмпри и умер. Но письма никак об этом не говорили. Ни слова, ни намёка. Обычные письма.
— Чаю? — спросила Люсинда Рокингэм. — Сегодня я заварила «Эрл Грей»[3]. Эдварду такой чай нравился. Как это я раньше не вспомнила.
Он придвинул к себе машинку и разгладил сто семьдесят шестое письмо.
— Мы доберёмся до Олдборо к шести, — сказала она. — Где встретимся?
— Я позвоню в коттедж. Скажи мне номер.
— Минутку. Вот он…
— Да. Понял. В районе шести? Отлично. Двадцать четыре часа.
— Да. Я просто не верю.
— Я тоже. Нет, верю. Я лет так на десять постарел за дни, проведённые тут.
— Дурачок… Как там у тебя, кстати?
— Практически кончил. Можно подводить черту.
— А ты узнал…
— Нет.
Сквозь стеклянную дверь будки он смотрел на хмурое море далеко за равнодушными фонарными столбами эспланады, на спинку чугунной скамьи, на холодный зрачок чайки. Он повторил:
— Нет.
— Но это ещё важно для тебя?
— Да. Важно.
— А ты не можешь спросить об этом как-нибудь поделикатней?
— О боже, конечно же, не могу.
— Я вот думала, — сказала Люсинда Рокингэм, — что раз уж это ваш последний вечер, то его как-то надо отметить. Я заказала утку у мясника, а в кладовой, к счастью, нашлась бутылка хорошего вина.
— О… это очень любезно с вашей стороны, но так получилось, что мой друг…
— Но вы же собирались переночевать?
— Да, но я намеревался сказать, что, в общем…
— Мне просто пришло в голову, что после всех этих писем, у вас мог возникнуть один вопрос…
Он посмотрел на неё. Чистенькая, старенькая, сутулая, живые глаза в сетке морщин.
— Да. Действительно. Один вопрос остался.
— Вечером, — сказала мисс Рокингэм, — вечером за торжественным ужином. Это как раз подходящий момент.
— Так, — сказал он, — значит, ты приехала. Ты здесь. Добрались благополучно?
— Да. Вполне. Где ты?
— В телефонной будке на приморском бульваре.
— Так ты будешь минут через десять. Я скажу тебе, как ехать. Нужно свернуть с дороги, которая идёт вдоль берега, сразу после…
На него вновь уставилась с парапета чайка, всё тем же металлическим зрачком.
— Я пытался дозвониться к тебе в Лондон. Но тебя уже не было. Видишь ли, так получается, она говорит, что… Чайка подняла клюв к серому небу и издала протяжный звук; он едва слышал собственный голос, свои невнятные обидные слова… — Понимаешь, я должен, просто должен. Можно позвонить тебе около одиннадцати? Она, обычно, ложится в такое время.
— Я не уверена, — сказала она после короткой паузы, — что я буду дома. Возможно, я пойду с Дианой на концерт.
— Но я рискну, ладно?
— Рискни.
Мисс Рокингэм сочла утку слегка жёстковатой, но вино ей понравилось. Она позволила ему убрать со стола и вместе с ним перешла в гостиную. В руке у неё был бокал, наполовину наполненный вином. Она открыла дверцу печки и энергично поворошила угли. Потом села.
— Вас, должно быть, интересует, какого свойства у меня были отношения с Эдвардом Лэмпри. Мы никогда не были любовниками. В физическом смысле.
— О, — выдохнул он. — Да. Конечно. Не то чтобы я… Я не имел права. Так, ради книги.
— У нас была такая договорённость. Ради его семьи. Ну а сейчас, раз уж мы всё обсудили, не послушать ли нам музыку?
Потом, позже, когда она уже легла, он вышел к телефону-автомату. Парни, вывалившись из пабов, заводили на эспланаде свои мотоциклы. Белая собачонка бегала вдоль тёмных витрин магазинов. Волны с шумом ударяли о мол. Он набрал её номер. Долго ждал, потом, наконец, повесил трубку. Что он чувствовал? Ничего, ровным счётом ничего. Ну разве что слабое сожаление, едва различимое, угасающее чувство утраты.