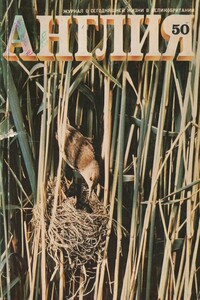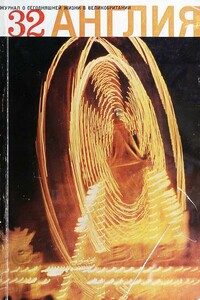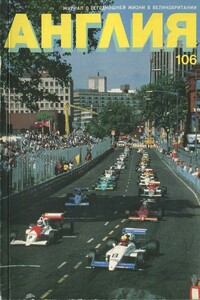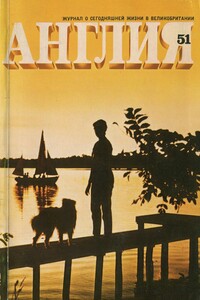И так год за годом. Осень, зима, весна, лето. Бесконечные ожидания желанной…тайной встречи.
Вкусы Лэмпри в музыке и литературе были довольно эклектичны. По крайней мере, так считала мисс Рокингэм. Она взяла с полки книги с его собственноручными примечаниями. Целые абзацы были подчёркнуты знакомыми красными чернилами («Он двенадцать лет писал одной авторучкой»), на полях теснились пометки («Признаюсь вам, что мне никогда не нравилось, как Эдвард обезображивал книги, какими бы мотивами он не руководствовался».) Она заглянула в отполированный ящик из красного дерева, который стоял в углу, повертела что-то в медлительных скрюченных пальцах, чертыхаясь и кряхтя, и, наконец, извлекла, к его изумлению, пластинки Дюка Эллингтона и Сидни Беше.
Дождь сменился солнцем, и снопы света упали на стопки писем в комнате для гостей. На грусть и веселье, восторг и сожаление. На все восемнадцать лет.
— Мягкий свет и приятная музыка, — сказала девушка. — Нью-Орлеан и Эрза Китт[2]. Не ожидала. А какая, кстати, радиола? Чувствую, если б ей было не восемьдесят, то я бы получила отставку.
— У меня голова кругом идёт. Работал шесть часов, не отрываясь. Так увлёкся, что даже не слышал, когда она принесла чай. Чай остыл и сандвичи с огурцами совсем отсырели.
— Вся эта чужая жизнь… Не знаю…
— Ты мне снилась вчера.
— И что во сне делала?
— Стыдно сказать.
— Ах ты! — сказала она.
Над четырьмя графствами свистел и завывал ветер.
— Что?
— Я ничего не сказала.
— Уже десять суток, — сказал он, — считая с четверга. Десять суток и шесть с половиной часов.
— Слушай, сказала она, — неужели ты думаешь, что я не знаю?
— Когда мы встретимся, я тотчас…
— Ничего не слышно.
— Это неважно. Почти неважно. Любовь моя.
— Послушай, сказала она, — может, ты сделаешь перерыв на день или на два. Приедешь в Лондон. А потом сразу назад.
— Нет. Не могу. Хочу… но не могу. Я как раз на середине. Мне тут кое-что не совсем… Что-то такое грандиозное, что мне просто не… Алло! Ты меня слышишь? Где же ты?
Мисс Рокингэм, во имя истории литературы я вынужден спросить вас, была ли между вами и поэтом физическая связь.
Вы спали с ним, мисс Рокингэм?
Должно быть, сказал он себе, это не имеет значения. По крайней мере, для книги это не так уж и важно. Вожделение здесь, рядом, рукой подать. Главное — в письмах. Главное — в самих отношениях, в чувстве. Всё прочее может оставаться тайной.
Но надо докопаться. Для себя, не для книги. Вот так. Потому что письма прочитаны, потому что жил чувствами Эдварда Лэмпри и его глазами смотрел на женщину, им любимую. Потому что не остался равнодушен.
Они засиделись допоздна. Чуть слышно играла радиола. Люсинда Рокингэм открыла бутылку мадеры, залежавшуюся ещё со времён брата.
Разлила мадеру в хрустальные бокалы, отражавшие свет лампы. Она рассказывала, как Лэмпри заболел и как однажды под вечер в Лондоне она впервые поняла, что он умирает. Это случилось в Галерее Тейт. Она повернула бокал, и отражённые лучи осветили тёмные углы комнаты. Они смотрели Шагала и Кандинского.
— Знаешь, меня это даже в дрожь бросает, — сказала она.
— Честно говоря, я не уверен. Вполне возможно, у них ничего и не было. Так даже ещё интересней. Письма. Всё в них.
— Да не из-за них. Из-за тебя.
— Плохо слышно.
— Они для тебя, — начала она обиженно, — важнее, чем твоя собственная жизнь.
Он лихорадочно засунул в карман руку. Звякнула монетка.
— Алло! Всё в порядке. Я бросил ещё одну. Ты, кажется, злишься. Пожалуйста, не надо.
— Я не злюсь.
— Я на самом деле люблю тебя. Что? Говорю, люблю тебя.
— Малколм — вымолвила она, наконец.
— Я всё время думаю…
— О чём?
— Просто, всё время думаю… о нас.
— Ты думаешь о том, — сказала девушка, — что у нас тоже ничего не было?
Стопка писем уменьшалась. Люсинда Рокингэм, стоя у него за спиной протянула ему чашку кофе и сказала:
— О, боже. Так я снова останусь скоро одна. Ещё день или два?
— Думаю, три. В субботу надо кончить. И чем я вас только отблагодарю?
— Но мне это было в радость, — великодушно сказала она, — мне с вами было хорошо. Я жила одиноко и была рада поговорить. Надеюсь, я вас не слишком обременяла своими разговорами.