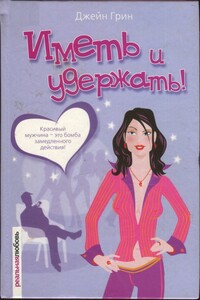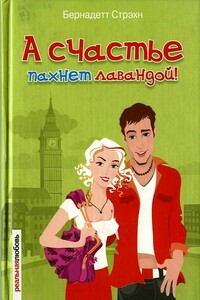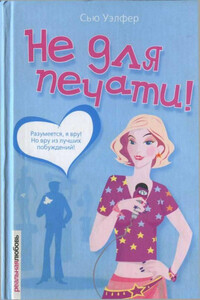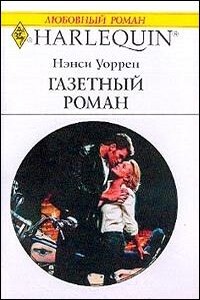Я знаю, как уйти.
Джонз просовывает голову ко мне в кабинет.
— Что с Дженет? — спрашивает он, как будто утром у нас не было никакого молчаливого разговора.
— У нее очередной брачный период.
Его лицо передергивается. Невольное проявление беспокойства и отвращения.
— Она взяла мои фисташки, — говорю я, но думаю совсем не о зеленоватых орешках. Я думаю о том, что сказала Джина.
— Пошли поедим? — предлагает Джонз.
Я моргаю.
— Что-то не хочется… Я плохо спала.
— С каких это пор утомление стало влиять на твой аппетит?
— С тех пор, как Джина явилась ко мне беременная, — бормочу я.
В его мозгу разом вскипают два чувства. Я ощущаю это, хотя выражение его лица совсем не меняется. Первое — это удивление. Второе… Это смесь грусти с тревогой и с небольшой порцией ревности. Потому, что я опять не впустила его в свой мир.
Я с повышенным вниманием рассматриваю степлер на своем столе.
— Могу предположить, что она была уже далеко от Хоува, когда позвонила тебе, — говорит он.
— Да, она была в Джолиете, — отвечаю я.
— А что насчет ее беременности?
— Она привезла папашу на буксире.
— А, этот таинственный Дилен.
Я киваю.
— Ну пошли, — говорит он. — Поешь, и будет лучше.
— Лучше не будет.
Почему я не ухожу, ведь ноги же у меня есть? Почему не могу перестать быть скворцом и начать новую жизнь? Например, жизнь одинокой перелетной птицы? Звучит неплохо. Я бы парила над лесами и пела что-нибудь красивое… Одна. Гордая. Свободная. Без этих птичьих разборок, без ссор из-за пустяков, без песен, звучащих на манер сломанного аккордеона, без злости и раздражения. И никакой памяти о коллективном бессознательном. Никакого сращения. Никаких сиамских близнецов.
Была бы только я.
Может, дорогая, ты просто не умеешь ходить?
Я смотрю вниз, на свой письменный стол, и вижу побелевшие костяшки, проступившие на пальцах. Я постепенно, очень осторожно ослабляю хватку и отпускаю крышку стола.
— Нет, — говорю, — я не моя мать.
Брови Джоны исчезают под волосами.
— Никто этого и не говорит.
Джина говорила.
И я говорила.
Я надеваю пальто и оставляю свои мысли. Я устала. Уйти можно и завтра. Маньяна. Завтра никуда не денется.
Закутанные до самых глаз, мы направляемся к киоску с хот-догами на углу.
Человек, жарящий на углях открытого гриля свиную плоть, выглядит, как хряк-каннибал, пожирающий себе подобных.
— Как ты думаешь, он по утрам ест из корыта? — шепчет мне Джонз, пока мы стоим в очереди. Это дежурная шутка постоянных покупателей.
— Вне всякого сомнения.
Но, несмотря на свиноподобную внешность, мозги у продавца есть. Поэтому его дело и стало процветать. Мы стоим тут в очереди именно потому, что хотдоги здесь вполне терпимые. Да ни один улыбчивый и приветливый продавец и не открыл бы магазин на этом углу.
— С вас еще двадцать пять центов за халапеньос[7].
И все-таки я, пожалуй, с большим удовольствием пошла бы к улыбчивому и приветливому продавцу, особенно если бы за ту же плату он давал еще что-то.
— Спасибо, — говорю я ему. — Ты настоящий друг. Не то что другие.
Можете считать это сарказмом. О-хо-хо.
Свиные глазки сужаются.
— Если не нравится, иди в другое место. — И он сгибается пополам, хохоча над этой своей как бы шуткой.
— Ты, как всегда, прав.
Сражаясь с ветром, мы с Джонзом идем на нашу скамейку. Скворцы ее уже всю уделали.
— Учитывая количество булочек с хот-догами, которые я им скормил, можно было бы ожидать от них большей благодарности, — говорит Джонз.
— Может, им не нравятся булочки с хот-догами.
Где-то в середине ланча мой желудок начинает бунтовать. Мысли тоже не всегда послушны. Они возвращаются, когда ты их не ждешь, когда не в состоянии ими заниматься… Я заворачиваю остатки хот-дога и передаю Джоне.
— Не хочешь?
Я пожимаю плечами. Наблюдаю, как скворцы сражаются за какое-то забытое в коричневой траве сокровище.
— Как ты думаешь, скворцы когда-нибудь устают друг от друга? — спрашиваю я.
Несколько секунд он молчит. Старается понять, что я имею в виду на самом деле.
— Возможно, — отвечает он. Но он говорит это так, как другой сказал бы: «Ну и так далее» — давая понять, что высказывание завершено и спорить больше не о чем.