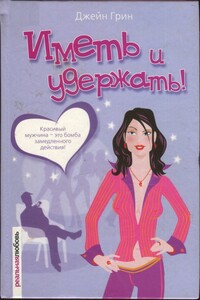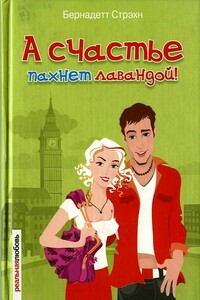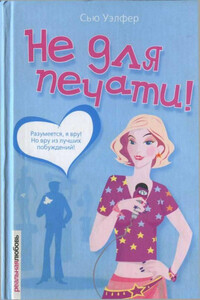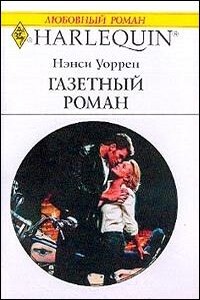— Это будет событие месяца, — наконец говорит она. — Я в ударе.
Я улыбаюсь. Довольно кисло. Безнадежного пациента вывезли на солнышко.
— Черт, — продолжает она. — Если бы вы с Джоной не были такими не-разлей-вода, я занялась бы им.
Безнадежный пациент кашляет и отходит в мир иной.
— Это у тебя фисташки? — спрашивает Дженет.
Я заставляю себя кивнуть. Затем протягиваю ей пакетик.
— Спасибо. Пойду посмотрю, где Кенни. — В дверях она останавливается и опять поворачивается ко мне. — По-моему, у него отличное чувство юмора, как ты считаешь? В последнем номере «Космополитена» писали, что мужчины с юмором в постели что надо.
— Точно. Еще бы.
Она кладет ладонь на пистолет и поглаживает его.
— Знаешь, девушке бывает нужен не только такой пистолет.
Фрейд отдыхает!
Потом она уходит, унося мои фисташки.
Надеюсь, у Кенни помимо юмора есть еще и дубинка.
За окном пролетают скворцы, и их тени проносятся по моему письменному столу.
— Клянусь, я их всех когда-нибудь потравлю, — сказала мама как-то утром в марте одиннадцать лет назад. — Только посмотри. Они же повсюду!
Из кухонного окна я посмотрела на ковер из скворцов и подумала о том, что осталось два месяца до того, как я уеду из этого городишки. Два месяца до того, как у меня будет достаточно денег, чтобы купить себе что-нибудь на четырех колесах, которое вывезет меня за пределы Хоува.
— Они делают только то, что в них заложила природа, — ответила я.
— Они опять заняли все домики для ласточек, — сказала мама.
— У нас ласточки никогда и не жили.
— Ты на это посмотри, — и она показала на существо с куцым хвостом, запихивающее солому в бутыль из тыквы, висящую на шесте. — Вот поэтому я их и потравлю.
— А им, может быть, хотелось бы отравить тебя, — сказала я. — Ведь ты только и делаешь, что разрушаешь их дома. Ты же вытаскиваешь солому и траву и разбрасываешь по земле.
Мамины пальцы стиснули край раковины.
— Ты хочешь сказать, что я местный специалист по разрушению чужих домов? — спросила она.
Это был единственный раз, когда она сказала хоть что-то о Долорес.
* * *
Скворцы проносятся мимо моего окна. Такая черная туча. Я слежу за фигурами, которые они образуют в полете, и мечтаю о том, чтобы оказаться в своей кровати, закутаться в шерстяные одеяла… Но моя кровать занята. Мечта с легким шипением испаряется, и я думаю, не поможет ли мне сигарета… если, конечно, удастся открыть окно.
Я — без особого усердия — тяну вверх раму окна, и тут звонит телефон.
— У вас здесь нет ничего, кроме сои и готовых завтраков, — говорит Джина, когда я беру трубку.
— Есть молоко, — замечаю я.
— Обезжиренное. Такая гадость.
— Тогда купи пирожков в магазине на улице.
— Я не люблю пирожки.
— А что ты любишь?
— Не знаю.
— Сделай себе бутерброд с арахисовым маслом и желе. В одном из навесных шкафов есть арахисовое масло.
— Я не люблю арахисовое масло.
Я представляю себе, как хватаю ее клювом за перья на затылке и изо всех сил трясу. Это помогает.
— Спустись вниз и пройди два квартала направо, там есть супермаркет, — громко говорю я, мысленно выплюнув изо рта перья. — Купишь там, что тебе хочется.
— А вы с ней хоть когда-нибудь ходите в гастроном?
— Только раз в две недели — по вторникам в полнолуние.
— Что?
— Да ничего. Удачной охоты. На продукты. — И я вешаю трубку, пока не выдернула провода и не отстегала эту маленькую сучку.
Телефон звонит опять.
— Ты прямо как мама, — говорит Джина. — У тебя даже голос был такой же, как у нее. Плаксивый. Такой: «А-а-а, а-а-а, а-а-а».
И вешает трубку.
Я неотрывно смотрю на телефон. Это что — шестнадцать лет? Я тоже так себя вела в шестнадцать?
Но я не моя мать.
— Я не разрушаю чужие дома, — сказала мама. Кожа на костяшках пальцев у нее побелела от напряжения.
Я протянула руку к буфету, чтобы взять один из бесплатных стаканов «Бургер Кинг», которые я притащила с работы, и налила себе воды.
— Тогда почему ты не уйдешь? — спросила я. — Ноги у тебя есть?
— Почему ты так на меня злишься? — сказала она. — Что толку в твоей злости?
Я вышла и пошла подальше от дома. То есть сделала то, чего, как я уже понимала, мама не сделает никогда.
Я не моя мать.