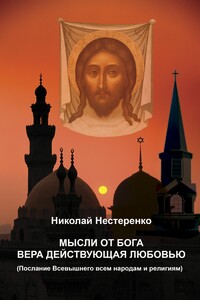— Гражданство? — спросила она, перебирая разноцветные бланки паспортов.
— Не имеет значения, но мне нужен безвизовый въезд в Астлан.
— Тогда Тифарет, и временный вид на жительство в Монсальвате. На имя Раххаля ат-Танджи?
Я покачал головой.
— Есть некий Джованни Ботадеус, — предложила ведьма. — И паспорт, и вид на жительство. Только переклеить фотографии, проставить печати и заменить ламинат.
— Устраивает. Сколько за все?
Когда Лайла прикрыла на мгновение свои темно-синие глаза, ее лицо стало похоже на восковую маску покойника. Закончив вычисления, ведьма сказала:
— Полторы тысячи дирхемов.
Я бросил на стол мешочек с авигдоровым золотом. Кредитных карточек, как и долгих прощаний, Лайла не признавала.
— И я заберу свой свинцовый ящик, — сказал я.
Зверинец Фуада располагался на окраине Базара. Старый охотник поставил свой шатер так, чтобы до него не доносились ни гомон Базара, и ни запахи зверей, а из входного проема была видна пустыня.
Это всегда поражало меня в пустыне — она начинается вдруг. Вот ты сидишь в шатре, пьешь чай с пахлавой, а выйдешь наружу и зайдешь вон за тот бархан — и все, ты уже посреди нигде, и вокруг нет ничего, кроме песка, неба и солнца… Солнце садилось, и барханы были розовыми в его косых лучах. Сквозь откинутый полог шатра прокрался прохладный ветерок и принес с собой ласковый шепот остывающего песка…
— Угощайтесь, уважаемый Раххаль, — сказал Фуад, когда одна из его жен поднесла ко мне блюдо с пахлавой.
На полу шатра лежала мохнатая шкура нифльхеймского мастодонта, а на центральном столбе были прибиты рога буйвола из Тимбукту и висела керосиновая лампа. В ее неверном свете угадывались очертания других охотничьих трофеев Фуада, разбросанных по шатру…
Небрежным жестом Фуад отослал супругу на женскую половину шатра и сказал, наполняя кальян фруктовым табаком:
— Когда мне было столько же лет, сколько сейчас уважаемому Раххалю, я много путешествовал и еще больше охотился.
Я откусил липко-сладкой, истекающей медом пахлавы и поспешил запить ее чаем.
— Я гарпунил кракена на Тортуге, ловил живьем диких драконов в Шангри-Ла, три дня гнал вепря в Каэр-Исе, травил гончими мастодонтов в Нифльхейме и стрелял райских птиц в Амаравати, — продолжал Фуад, раскуривая кальян. — Но больше всего я мечтал о шкуре тигра из Ангкор Шаня… Но сафари в этот мир стоит дорого. И тогда я начал зарабатывать тем, что умел делать лучше всего — охотой. Я хотел скопить на сафари…
— И что? — спросил я.
Зверолов вскинул брови:
— Разве уважаемый видит здесь шкуру шаньского тигра?
Я непонимающе покачал головой.
— Я накопил уже на десять сафари, — с горечью сказал Фуад. — Только всякий раз мне подворачивался еще один выгодный контракт, прибыльная сделка и шанс заработать еще немножко денег… Я так и не убил своего тигра. И мне горько видеть, как такой молодой человек, как вы, Раххаль, покупает верблюдов вместо драконов… Конечно, караван верблюдов — это выгоднее, чем один дракон. А в Ираме все привыкли мерять выгодой…
Взгляд Фуада стал пустым, седые брови сползлись к переносице, и лоб прорезали глубокие морщины.
— Я ненавижу этот город и этот Базар, Раххаль. Здесь так легко увязнуть в деньгах…
Я хмыкнул. На темно-синем, как глаза Лайлы, небе стали загораться первые звездочки. Предвкушение завтрашнего отъезда, сентиментальная речь зверолова, общая лиричность обстановки и шепот пустыни заставили меня вытащить фляжку с коньяком и наполнить чайные стаканчики.
— У меня есть тост, — сказал я. — За твоего тигра, Фуад!
— И вашего дракона, Раххаль! — улыбнулся в усы зверолов.
Старший таможенный инспектор Хаджар прищурил свои маленькие поросячьи глазки и внимательно всмотрелся в сертификат. Было пять утра, и спросонья таможенник вряд ли бы обнаружил огрехи в работе Лайлы.
— Замечательно, — зевнул Хаджар, — а где экспортная декларация и инвойс?
Я всучил ему всю стопку документов, а сам прикрикнул на смуглых астланских невольников, грузивших ракетометы:
— Осторожнее там!
«Стингеры» были упакованы в брезентовые тюки, которые рабы навьючивали на бока верблюдов. Ракеты были в зеленых цинковых ящиках, переложенные обычной соломой. Хозяин склада сновал между ящиками, пересчитывал, записывал, суетился, нервничал, помечал ящики мелом и то и дело поторапливал рабов. Наконец один из невольников — худой и очень жилистый парень, одетый в набедренную повязку и сандалии, оторвался от погрузки и на певучем астланском наречии обложил кладовщика отборным матом.