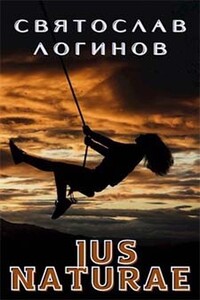— Я все понимаю, Раххаль, — сказал Хаджар. — Но объясни мне, на кой ляд в Тимбукту зенитные комплексы?
Я мысленно выругался. Чувство юмора Лайлы не всегда было уместным.
— Мое дело — караван, — сказал я. — Кто заказывает груз, меня не касается.
— Ну да, ну да… — ухмыльнулся Хаджар, оглаживая куцую бороденку.
Его пухлые пальчики, перебиравшие документы, наткнулись на конверт. Глаза таможенника маслянисто заблестели, а щеки надулись от усердия, пока Хаджар пересчитывал купюры.
— Будем ставить пломбы? — спросил Хаджар. В Ираме продавалось и покупалось все…
Тем временем перепалка в складе грозила перерасти в потасовку: хозяин уже замахнулся на строптивого раба плетью, а у того в руке возник нож.
— Эй, парень, подойди-ка сюда! — окликнул я невольника.
Жилистый мальчишка приблизился со всем возможным достоинством, которое можно выказать в рабском ошейнике. Нож исчез так же быстро, как и появился.
— Как тебя зовут?
— Ксатмек, — вздернув подбородок, ответил паренек.
— Что ты ему сказал? — Я кивнул на хозяина склада.
— Что если он будет нас торопить, мы уроним ящики и все отправимся к праотцам! — с вызовом бросил Ксатмек, глядя мне прямо в глаза.
Астланский раб, который разбирается в ракетах… Я ухватил Ксатмека за запястье и вывернул его руку. Так и есть: предплечье обвивал пернатый змей. Лицо астланца, побелевшее от ярости, вытянулось, когда я вложил ему в ладонь ключи от ошейника.
— Возьми бурдюки и наполни их водой. И запомни, Ксатмек: если ты убежишь, станешь просто беглым рабом. А если останешься, сможешь вернуться в армию Итцкоатля. Пошевеливайся, парень! — Я хлопнул его по спине: — Я хочу, чтобы караван вышел из Ирама еще до рассвета!
Мы идем по пустыне Руб-эль-Кхали тринадцатый день. Пали два верблюда, умерло четыре погонщика. Воды в бурдюках хватит еще на сутки.
С небом происходит что-то странное. Оно меняет цвет и переливается, как обычно во время Перехода, но время от времени по нему пробегают ядовитые серебристые полосы, похожие на струйки ртути. Солнце висит в зените, слепящий белый шар в косматой короне протуберанцев. Ночь не наступает уже сорок часов. Жара от песка сильнее, чем от солнца. Воздух дрожит зыбким маревом над солончаками.
Лапыверблюдов крошат соляную корку, проваливаясь по голень. Острые края соляного панциря пустыни царапают до крови ноги животным. В раны попадает соль, и верблюды протяжно и тоскливо ревут. У них гноятся глаза.
Не выдерживают даже опаленные солнцем астланцы. Их смуглая кожа облазит, и тела покрываются волдырями. Ксатмек кричит на них, запрещая обливать себя водой из бурдюков.
Наконец, солончаки пройдены. Под копытами верблюдов — белый песок, мягкий и податливый. Кое-где растет верблюжья колючка. Подъем на каждую дюну отнимает много времени. Караван замедляется. Один из погонщиков сходит с ума. Ксатмек перерезает ему горло ножом и сцеживает кровь в бурдюкиз верблюжьего желудка.
Я впервые сам совершаю Переход. Начинаю подозревать, что заблудился между мирами. Чувствую, как воняет мое немытое тело, болит копчик, плавятся от жары мозги. От белизны барханов начинаю слепнуть.
Горная гряда Чапультепек возникает на горизонте так неожиданно, что я принимаю ее за мираж. Когда понимаю, что это реальность, и мы почти дошли, нас окружают Дети Самума.
Их две дюжины. В черных бурнусах, перепоясанных пулеметными лентами. Верхом на лошадях и в двух джипах. Ксатмек достает нож и ощеривает красные зубы. Он пил кровь. Дети Самума смеются.
Я поднимаю руки. Спешиваюсь. Отцепляю от седла тяжелый свинцовый ящик, и мы вдвоем с астланцем тащим его к джипам…
До паромной пристани я добрался на лодке, а дальше пошел пешком. Было семь часов вечера, и с парома сходила толпа крестьян с плантаций. Я, в своих старых джинсах и потертой кожанке, с портфелем в руке, легко влился в этот серый поток. Крестьяне, еще недавно пасшие коз в предгорьях Чапультепека, а сегодня вынужденные по двенадцать часов в день возделывать хлопок на плантациях Монсальвата, не обратили на меня никакого внимания.
Когда-то на северном берегу озера Хочимилько была рыбацкая деревушка. Теперь рыба здесь не водилась, и домики на сваях стояли пустые, мертвые, с темными окнами и прохудившимися крышами. Чтобы убедиться, что за мной не следят, я свернул с понтонного дебаркадера на узенькие мостки и минут пятнадцать блуждал по закоулкам деревушки. Кое-где между домиками еще висели дырявые сети. К сваям были привязаны полузатопленные пироги. От воды пахло гнилью.