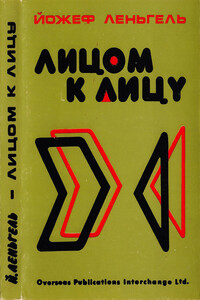Конечно, дневник подростка или юной девушки — тоже проявление некоей раздвоенности мышления. Однако подросток, как правило, перестает вести дневник, выйдя из переходного возраста, когда мальчик становится мужчиной, а девушка достигает женской зрелости. Меттерних довольно точно угадывает в Сечени «пылкого душой» вечного подростка, которого по-прежнему терзают двойственные чувства, одолевают страсти, а юношеское тщеславие вовлекает во всевозможные сумасбродные затеи и по достижении зрелой мужской поры. Пожалуй, он даже готов признать в Сечени порядочность, бескорыстие, благие намерения. Однако ему, государственному мужу, ведущему деловые переговоры с Ротшильдом, подобные черты в характере протеже могут лишь повредить. Будь Сечени человеком алчным, властолюбивым, словом, расчетливым, — легче было бы предвидеть его поступки. Но предприниматель нерасчетливый, легко загорающийся какой-либо идеей может нанести неисчислимый ущерб делу; такой человек в глазах Ротшильдов, Меттернихов попросту опасен…
Это мнение Меттерниха Сечени прекрасно знает и включает в свои расчеты. Ведь он обладает редким даром видеть наперед; как я уже говорил, остроту его зрения можно воспринимать чуть ли не как недостаток. Однако в течение всей своей жизни он предпочитает играть роль взбалмошного человека, не отвечающего за свои поступки, и эту игру переносит и на страницы дневника. Его приятельница, госпожа Зичи, откровенно заявляет ему, что он забавляется с людьми, «мистифицирует» их. «Люди не знают, когда вы говорите с ними всерьез, а когда дурачите их, — вот и сердятся».
Сечени это вполне устраивает. Льстит его самолюбию и отвечает его представлению о великом человеке. Ведь было бы заблуждением полагать, будто Байрон для него — единственный образец для подражания. Макиавелли, несколько переиначенный на талейрановский лад, тоже давал немалую пищу для фантазии во времена Сечени и в его кругу:
«С каждым днем я все более разочаровываюсь в людях и горжусь своими внутренними достоинствами. Я охотно выказываю себя злым и испорченным: невыразимое наслаждение видеть, что меня не понимают или же понимают превратно именно те люди, которых и сам я презираю. Чувствую, что все дела, за какие я берусь, завершатся успешно, но не сейчас и не для меня», —
горделиво поверяет Сечени сокровенные дневные (или, точнее, вечерние) мысли своему двойнику, делающему эти записи на рассвете.
Впрочем, наш герой предстает перед окружающими в различных ипостасях: он добрый и злой, исполненный надежд и изверившийся, и все это проявляется широкой и разнообразной гаммой оттенков. Для иного, более уравновешенного человека подобная смена настроений характерна в период полового созревания; у Сечени же, который в детстве отличался крайне запоздалым развитием — как физическим, так и духовным, — эти явления дают себя знать значительно позже. Начало его дневниковых записей помечено датой 13 декабря 1814 года, а последнюю заметку он делает за день-два до смерти — первого апреля 1860-го. И за эти долгие годы все зафиксированные им на бумаге чувства являют собою сложнейшее переплетение искренности и мистификаций.
Его собственное отношение к дневниковым записям известно нам из «Поучения» сыну. Шестидесятилетний Сечени, заключенный в дёблингский дом умалишенных, пишет:
«По моему мнению, каждому человеку должно вести дневник».
Дневники великих людей — он приводит в пример Веллингтона и лорда Нельсона — были бы чрезвычайно занимательны.
«Но, — продолжает он, — если дневник писан не с целью последующей публикации или прочтения, а для экономии времени (и сей рецепт он весьма рекомендует сыну), дабы нам контролировать самих себя, то дневник подмастерья портного — такая же ценность для его автора, как, к примеру, для священной особы его величества Франца-Иосифа — его собственный дневник. Портной, по всей вероятности, сделал бы такие записи: «В субботу, 5 декабря, я работал всего полдня; 6 декабря веселился на пирушке с приятелями; в понедельник, 7-го, не мог проспаться с похмелья, потому как упился превосходным гринцингским; 8-го мучился головной болью» и т. д. Однако если в человеке заложена склонность к нравственному самоусовершенствованию, — что, разумеется, conditio sine qua non