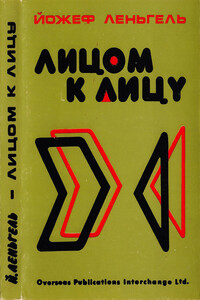Вспыхивает огонь, сверху навешивается котелок, и, пока варится ужин, ощущение усталости притупляется от сознания того, какой огромный пройден путь.
За ужином тот, что постарше, вынимает из бумажника фотокарточки: «Мои ребята».
За ним и молодой очкарик показывает фотографию: «Мама».
Оба ждут, чтобы показал и третий, но у того карточек нет; он отделывается кивком головы и добавляет: «Спать пора».
Молодой парень, будто только этого и ждал, вытаскивает из мешка свитер, натягивает на себя и не мешкая устраивается поближе к огню.
Но его останавливает старшой, тот, что весь день таскал на себе рейки: «Эдак дело не пойдет!»
Он берет топор, споро нарубает разлапистых еловых веток, подтаскивает их к костру.
Взявши палку, он разгребает в стороны раскаленные головешки, деля их на две кучки, затем густой еловой веткой сметает остатки золы. На расчищенное место укладывает охапку свеженарубленного ельника, поверх расстилает одеяло из грубого солдатского сукна.
— Живо раздеваться!
Из одежды сооружается изголовье. Два других одеяла и штормовки — служат общим укрытием, и вот уже все трое лежат под ними, тесно придвинувшись друг к другу.
— Из местных будешь? — спрашивает тот, что постарше.
— Не-е…
— Выходит, из старателей? — подключается молодой очкарик.
— Кабы оно так…
— Охотой промышляешь? — не унимается тот.
— Тоже бывает.
— Что значит «тоже»?
— А то, что и поохотиться не мешает.
— А все же, если не секрет, конечно, — подает голос пожилой, — занятье-то у тебя какое?
— Пекарь.
— Чего же тебя нелегкая носит вместе с нами?
— Оттого, что у пекаря ноги всегда в холоде, а голове жарко.
— А верно, что фамилия у тебя Неищи?
— Именно: Неищи!
Разговор смолкает. Бывший пекарь встает, еще раз подбрасывает сучьев в оба костра, снова ложится. Все трое мостятся поудобнее, жмутся друг к другу. Складки на лицах разглаживаются, наступает сон.
Рассвет росистый, волглый. Они просыпаются озябшие, с тяжестью в теле. Торопливо приводят себя в порядок, гасят огонь, мрачные трогаются в путь. На месте ночевки остаются обглоданные кости, обрывки бумаги. Постукивание топоров отдаляется. Стоянкой завладевают муравьи. Они облепляют, вычищают, превращают в невидимое то, что оставлено людьми. Только на деревьях плачут смолой знаки-отметины.
Множество народу движется по следам этих отметин, исходящих смоляными слезами. Истошно воют пилы, звучит перебранка топоров, вздыхают строевые деревья-пеликаны, с грозным уханьем валятся на землю, на которой им так покойно жилось. Разбегается зверье. Поскрипывают тачки. Грохочут, скатываясь вниз, камни.
Люди обливаются потом, когда стоит безветренный летний зной.
И зимой тоже обливаются потом. Ноги закоченели, а рубаху хоть выжимай, на лице тают снежные хлопья. Чуть остановишься — вмиг под носом нарастают сосульки, индевеет небритая щетина, и вот уже все тело бьет озноб. Тут уж не до роздыха. Запыхался, сердце колотится у самого горла, а останавливаться никак нельзя, знай себе маши топором да кати тачку.
И весной обливаются потом люди, когда пила вязнет в пропитанной смолой древесине, когда береза извергает из себя студеный сок, и его можно пить не отрываясь, долго-долго.
Потеют осенью, когда не останавливаясь бредут по трясине и одежда преет от бесконечных ливней.
Спиленное дерево, погибая, может отомстить, нанести в падении ответный удар: позвоночник превращен в бесформенную массу, хрустнет раздробленная берцовая кость.
А то и обрубленная ветка отлетит в сторону… и ненароком угодит по лбу.
Но людям, словно муравьям, несть числа, и стоит обильному дождю пролиться, как уже и кровь смыта. Довольно одного колечка дыма от закуренной сигареты, и страха как не бывало; и стаканчика чего-нибудь покрепче тоже за глаза хватит, чтобы пустить по ветру все заработанное своим горбом.
Горестный стон падающего дерева тонет в раскатах взрывов, сотрясающих землю.
И вот уже деревья, меченные белыми знаками, мирно покоятся вдоль просеки, которая напоминает полосу, простриженную огромной парикмахерской машинкой в гуще земных волос. Тянется длинный-предлинный след: то сбегает вниз в распадок, то карабкается по склону вверх. По обочинам дороги в землю вкопаны столбы из спиленных и обтесанных деревьев. Эти уже навечно распрощались со своими собратьями, стоят донага раздетые. Разве что кое у кого на самой макушке нет-нет да и мелькнет чудом уцелевшая ветка с зеленым листком.