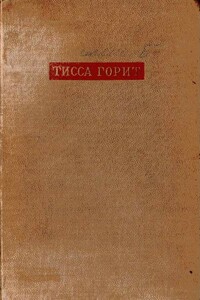Один из руководителей профессионального союза учителей, Элемер Секула, часто бывавший в гостях у дяди Филиппа, говорил о военной опасности:
— Правительство, вероятно, готовится к войне. Я допускаю также, что к войне готовятся и все европейские правительства. Ну и пусть! Если они действительно решатся на эту средневековую гадость — на объявление войны, — рабочие Европы ответят всеобщей забастовкой. Это несомненно, как и то, что в случае всеобщей забастовки война невозможна.
— Одного только я не понимаю, — замечал в таких случаях дядя Филипп, — почему необходимо так много говорить об опасности, которой будто и не существует? Не находишь ли ты это, Элемер, немного странным?
Вместо ответа Секула пожал плечами.
Из всех моих знакомых только один человек был убежден, что нам предстоит война, и этот человек — Карой Полони — радовался войне. Провалившись на экзамене на «аттестат зрелости» по математике, Полони готовился теперь к дополнительному экзамену. Но мировая политика интересовала его больше, чем экзамен.
— Если мне немножко повезет, война начнется еще в течение лета, и тогда мне не нужно будет сдавать дополнительный экзамен!
— Учись, Карой, и не говори глупостей, — убеждал я его. — Войны не будет!
— Как не будет? Ты не знаешь кайзера Вильгельма и Франца-Фердинанда! Они лучше всех понимают, что мы сильнее наших врагов и что было бы глупо упускать такой случай. Возможно, конечно, что они начнут войну только после дополнительных экзаменов, но что вообще начнут — в этом так же нельзя сомневаться, как и в том, что мы растопчем Россию и утопим в море Англию. Я очень счастлив, что родился в наш век!
— Ты осел, Карой! Ты — единственный человек, верящий, что в Европе, в цивилизованной Европе, в двадцатом веке возможна война!
— А почему невозможна?
— Если ты не знаешь, — скажу тебе.
Я привел ему множество аргументов, что век войны прошел. Но убедить Кароя было невозможно. Он был так же упрям, как и глуп. Вопреки самым блестящим доводам, он остался при своем абсурдном мнении:
— Европа находится накануне войны. Если бы я не знал этого, я пришел бы в отчаяние из-за своей неудачи на экзамене по математике. Но так — я счастлив!
Я поехал в Уйпешт. Прежде всего я хотел встретиться с Эржи, надеясь, что под вечер она будет дома…
Но я не застал ее и не нашел даже дома, в котором мы жили. Его снесли и на этом месте построили большой новый доходный дом.
Не зная нового адреса Кальманов, я пошел в Дом рабочих. Там все было по-старому.
Новостью был устроенный в конце двора кегельбан. Игра была в самом разгаре. Эндре Кальмана я нашел сразу. Он сидел у маленького стола один, за кружкой пива, и смотрел на играющих в кегли. Пожал мне руку и продолжал наблюдать за игрой. Я сел рядом с ним, но он, казалось, даже не заметил этого. Я обиделся и хотел уйти, но, когда встал, Кальман заговорил:
— Нечего сказать, хорошие дела творятся там у вас под Карпатами!
— Вы имеете в виду, товарищ Кальман, что мы не платим членских взносов? — сострил я.
— Это, конечно, тоже нехорошо. Но я имел в виду не это, а вашего «пророка». Электрическое освещение, авиация и — «пророк»! Черт знает что получается! Подробностей, конечно, я не знаю.
Я рассказал ему все, что знал об агитации русинских студентов, главным образом об Элеке Дудиче.
Он слушал молча, полузакрыв глаза, и стал волноваться, только когда игрок одним ударом уложил все девять кеглей.
— Я хотел бы встретиться с Эржи, — сказал я, — но не знаю адреса.
— Улица Татра, двенадцать.
— А где находится улица Татра?
— В городе Липто-Сент-Миклоше.
— В Липто-Сент-Миклоше? А как же Эржи попала туда?
Кальман выпил большой глоток пива.
— Вышла замуж. И когда мужа выслали этапом по месту прописки, ей тоже пришлось уехать. Она вышла за Липтака.
В этот момент игроки поссорились. Металлист Сопко обвинял портного Келемена в том, что вместо трех раз тот хотел бросать шар четыре раза. Келемен клялся всеми святыми, что не кидал третий раз, и ссылался на свидетелей. Один из свидетелей обвинял Сопко, что он привык кидать четыре раза и теперь пристал к Келемену только для того, чтобы отвлечь от себя подозрение в некорректной игре.