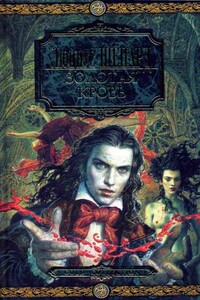— Куда ты подевался? Я чуть с ума не сошла!
— Я же тебе говорил, что должен...
— Я думала, ты все ей расскажешь про нас с тобой! — крикнула она, отступая в
глубь лавки.
— Расскажу! — крикнул я в ответ, начиная сердиться. — Но не сейчас, потом.
Ты же знаешь!
Она повернулась ко мне спиной.
— Я для тебя ничего не значу. Все твои ласковые слова — одна болтовня.
— Черт! — Я развернул ее и схватил за плечи. — Думаешь, всю
эту неделю я блаженствовал? Она явилась сюда прямиком из ада! Я хочу все ей
рассказать, но не могу, пока она остается в таком состоянии. — Меня
передернуло от бессердечности, с которой я отзывался о Кири, но чувства
лишали меня рассудка. Я встряхнул Келли. — Ты хоть понимаешь это?
— Нет, не понимаю! — Она вывернулась и бросилась к складу. — Даже если ты
говоришь правду, то мне непонятно, как можно быть такой... странной.
— Она не странная, а просто иная. Я ведь ни разу не говорил тебе, что она
мне безразлична. Наоборот, я твердил, что уважаю и люблю ее. Не так, как
тебя, конечно. Но все равно это любовь. Если для того, чтобы нам с тобой
быть вместе, я должен буду ее убить, это сразу убьет мое чувство к тебе. — Я
подошел к ней ближе. — Просто ты не понимаешь, кто такая Кири.
— И не желаю понимать!
— Там, откуда она пришла, живут настолько тяжко, что в плохие времена слабых
убивают на мясо, поэтому люди, чувствующие себя бесполезными, уходят в
никуда, чтобы не быть обузой. Нам трудно понять, что может сделать с
человеком такая жизнь. Я сам долго не мог понять.
У Келли задрожал подбородок, и она отвернулась.
— Мне страшно, — сказала она. — Я уже видела подобное в Уиндброукене. Очень
похоже. Там была одна замужняя женщина, которая любила другого человека.
Когда она не смогла уйти от мужа, потому что он заболел, этот другой
свихнулся. — У нее полились слезы из глаз.
Я потянулся было к ней, но она отступила в сумрачный склад, загородившись
рукой.
— Уходи. Хватит с меня боли.
— Келли! — простонал я, чувствуя свою беспомощность.
— Я серьезно. — Она пятилась от меня, всхлипывая. — Мне стыдно за то, что я
о ней сказала, правда, стыдно, мне очень ее жаль, но я не могу и дальше
жертвовать собой, слышишь? Не могу! Если этому так или иначе должен быть
положен конец, давай сделаем это сейчас же.
Удивительно, насколько все то, что мы произносили и делали на этом пыльном
складе, при неровном свете фонаря, под треск пузатой печки, было до
отвращения лживо, как сценка из дурной пьески, и одновременно искренно. Нас
влекло в сторону единственной истины, и мы заставляли свою ложь звучать
правдиво. Я не мог не говорить того, что говорил, хотя некоторые слова нестерпимо
резали слух.
— Черт побери, Келли... — бубнил я, бредя за ней следом по складу. — Давай
выждем. Знаю, сейчас все выглядит безнадежно, но потом все уладится, поверь...
Она прижалась спиной к стене рядом с пирамидой мешков, набитых зерном; на
каждом мешке было оттиснуто изображение петуха; сам воздух здесь казался
серым, как пропыленная мешковина. Справа высилась бочка с мотыгами,
поставленными кверху лезвиями, над головой свисали мотки веревки. Келли
склонила голову на бок, словно ей было любопытно, что произойдет дальше.
— Ты ведь мне веришь, правда? — спросил я, теряя остаток рассудка из-за
исходящего от нее жара и аромата ванильной воды и прижимая ее тело к своему.
— Хочу верить, — ответила она. — Видит Бог, хочу!
Ее груди так и просились мне в ладони, ее рот утолил мою жажду. Сочные, как
ягоды, губы, черные глаза, смуглая кожа... Я совершенно не знал ее, зато
чувствовал, что она-то меня знает, а именно это и бывает порой нужно для
любви — уверенности, что партнер видит тебя насквозь.
— Господи, я люблю тебя, Боб! — простонала она. — Как я тебя люблю!
Все происходило впопыхах, на грани вывиха суставов и безумия. Наши зубы
стукались при поцелуе, я занозил себе ладонь, которой опирался о стену.
Потом она вдруг пролепетала «Боже!» каким-то отчаянным голосом, и выражение
ее лица сменилось с неистового на ошеломленное.
— Что такое?.. — выдавил я, не понимая, в чем дело. Келли смотрела поверх
моего плеча. Я обернулся.