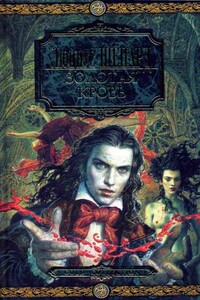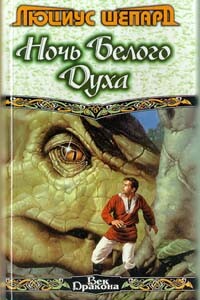Как-то в разгар дня я вернулся домой, насвистывая, прямиком из объятий Келли
и обнаружил Бреда сидящим на стуле перед закрытой дверью спальни. От его
дурного настроения моя жизнерадостность мигом улетучилась. Я спросил, в чем дело.
— Мама вернулась, — ответил он.
Это был удар. Скрывая свое состояние, я сказал:
— Чего же тут горевать?
— Она проиграла. — Слова были произнесены почти вопросительным тоном, будто
сын никак не мог поверить в то, что случилось.
— Она не ранена?
— Только порез на руке. Но не в этом беда...
— Наверное, она переживает?
Он кивнул.
— Что ж, — проговорил я, — постараемся ее отвлечь.
— Ну, не знаю... — протянул Бред.
Я прошелся ладонями по своим бедрам, как бы приводя себя в порядок; мне
требовалось знать, что хоть что-то остается незыблемым, когда рухнули все
ожидания. Казалось, дверь — не преграда для отчаяния Кири,
распространившегося по всему дому. Я погладил Бреда по голове и вошел. Кири
сидела на краю кровати, залитая светом заката, от которого комната казалась
утонувшей в крови. Кроме повязки на бицепсе, на ней ничего не было. При моем
появлении ни один ее мускул не дрогнул, взгляд остался устремленным в пол. Я
сел рядом, но не прикоснулся к ней: раньше ей случалось так глубоко уходить
в себя, что она фурией набрасывалась на меня, если я неосторожно выводил ее
из оцепенения.
— Кири, — выговорил я, и она вздрогнула, как от заряда холода. Лицо ее
осунулось, щеки ввалились, губы превратились в тоненькие полоски.
— Лучше умереть, — молвила она загробным тоном.
— Мы же знали, что когда-нибудь ты проиграешь.
Она промолчала.
— Черт возьми, Кири! — Я чувствовал гораздо больше вины, чем ожидал, и
мучился угрызениями совести. — Мы обязательно преодолеем это!
— Не хочу, — медленно, через силу произнесла она. — Мое время пришло.
— Глупости! Ты теперь живешь не на севере.
Ее кожа покрылась мурашками от холода. Я принудил ее лечь и укрыл, а потом,
зная, как ее нужно согревать, разделся и растянулся с ней рядом. Прижимая ее
к себе, я нашептывал ей, что больше не желаю слушать всю эту ерунду, ведь
здесь, в Эджвилле, поражение в поединке вовсе не означает, что проигравший
должен уползти в никуда и издохнуть, а Бред очень от нее зависит, и мы оба
от нее зависим; при этом у меня болело сердце оттого, что я живу во лжи. Я
сомневался, что она меня слышит; даже если до нее долетали мой слова, в них
не было для нее смысла. Склонив голову набок, она уперлась невидящим
взглядом в стену, все больше багровевшую в свете заката. Думаю, она была
тогда вполне способна умереть усилием воли, настолько ее сломило поражение.
Я попытался склонить ее к любви,
но мои поползновения были пресечены. Я был благодарен ей за то, что она не
позволила мне обмануть ее еще раз, уже не словами, а делом. Я допоздна лежал
с ней рядом и уговаривал, пока не уснул, уткнувшись носом ей в ухо.
Ночью я было понадеялся, что мое внимание идет Кири на пользу, но вскоре
оказалось, что ее депрессия только углубляется. День за днем, забросив все
дела, я втолковывал ей, как она бесценна для нас, но ничего не добился. Она
знай себе сидела, скрестив ноги, у окна, глядела на равнину и иногда
заводила какие-то дикарские песни. У меня не было способа проникнуть под
твердую оболочку отчаяния, в которой она укрылась. Логика, мольбы, злость —
ничто не давало результата. Ее депрессия начала передаваться мне. У меня
болела голова, я не мог собраться с мыслями, мне не хватало энергии даже на
простейшие дела. При всей моей тревоге за Кири я скучал по Келли, ее чистоте
и нежности, способной побороть отравляющее меня отчаяние. На вторую неделю
после возвращения Кири мне пару раз удалось переброситься с Келли словечком:
я пообещал вырваться к ней при первой возможности и попросил выйти на
вечернюю смену, потому что мне будет проще ускользнуть из дому после
наступления темноты. Как-то поздним вечером, когда Кири опять затянула свою
песню, я шмыгнул за дверь и заторопился в лавку Форноффа.
Я долго стоял за дверью, дожидаясь, пока уберутся последние покупатели и сам
старина Форнофф. Когда Келли подошла к двери, чтобы запереть лавку, я вырос
перед ней, сильно ее напугав. Она успела причесаться, надела синее платье в
мелкую клетку и была так хороша, так стройна, так соблазнительна, что я едва
поборол желание овладеть ею прямо на полу. Я попробовал ее приобнять, но она
оттолкнула меня.