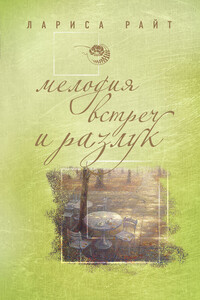— Согласился?
— Предлагает сначала написать мой.
— Твой? — Изумленный взгляд в другой конец зала. Получив одобрительный кивок, Аля ответила:
— Почему бы и нет? Повесим в гостиной. Ты все же хозяин дома.
— Нет, дома как-то ни к чему. А вот на даче можно.
Дачу в Комарове Аля любила. Это была, пожалуй, единственная радость, которую она приобрела в замужестве. Небольшой деревянный сруб почти на самом берегу Финского залива стал для нее олицетворением уюта и спокойствия, которых так не хватало ее душе. Именно там открыла она для себя то, что на земле совсем не обязательно работать, что совсем не всегда люди для земли, как это было в родном колхозе, но и земля для людей. Аля вдруг заметила, что не нужно сеять, пахать и вскапывать, можно просто лежать, сидеть, гулять, валяться и не чувствовать себя нахлебницей или лентяйкой.
Дачу она любила еще и потому, что муж оставался к ней в целом равнодушным. Он и об имуществе этом сообщил не сразу, а спустя месяц после свадьбы, когда она поделилась желанием посидеть у костра и пожарить мясо. Тут он и вспомнил про Комарово, даже по лбу себя хлопнул: «Вот недотепа! Что же я раньше молчал?!»
В Комарово они тогда съездили, костер развели, шашлык приготовили, но и только. Никакой веселой компании, никаких песен под гитару. А Вертинский у огня как-то не пелся… Да и не совсем одни они были. С водителем. Он, конечно, из «Волги» не выходил, не положено, но окна-то открывать никто ему не запрещал. Откроет ненароком, а начальство Вертинским балуется. Нехорошо… И забора между участками не было. А соседи вовсе не глухонемые. Соседи с глазами, с ушами, с языком и с памятью. Помнят небось, кому раньше дача принадлежала, и догадываются, в каких таких далях заканчивает свои дни прежний хозяин.
В общем, дачу муж не жаловал. Нехорошим она была воспоминанием, неприятным, будто сама хранила память о старом хозяине — директоре гастронома, давно посаженном и чудом не расстрелянном. Але же не было никакого дела ни до директора гастронома, ни до переживаний мужа. Ей нравилось проводить время на даче еще и потому, что на какое-то время (на день-другой) удавалось избавиться от присутствия мужа. От присутствия, но не от опеки. Всякий раз она замечала у изгороди тех, кто призван был проследить и доложить, с кем, когда и куда она явилась. Аля к доносчикам привыкла, а с некоторых пор испытывала к ним даже нечто вроде благодарности за то, что в Ленинграде их подобной работой не баловали. Видимо, ее муж был из числа тех людей, которые считали, что ради удовлетворения похоти необходимо отбыть куда-нибудь подальше.
Алю такой расклад устраивал. До появления в ее жизни художника она часто сбегала из города, объясняя свое желание необходимостью как-то обустроить дачную жизнь перед появлением ребенка.
Она действительно во многом преуспела. Конечно, ни о какой детской женщина даже и не задумывалась, но неисправная печь теперь отлично грела, из углов исчезла паутина, окна на террасе блестели чистотой, а Аля чувствовала себя настоящей Хозяйкой большого дома, которая только и делает, что отдает распоряжения. Конечно, ей и в голову не пришло еще и здесь самой убирать, чинить и драить. В соседней деревне нашлось немало охотников помочь милой молоденькой барыне. Дом стал ухоженным, теплым и гостеприимным, и, хотя гостей в нем по-прежнему не было, Аля чувствовала, что дом рад ее видеть, что с удовольствием принимает ее, что благодарен за все перемены и даже считает ее своей. И вот теперь все испортить? Повесить портрет, чтобы испортить присутствием мужа последний островок счастья? Ну уж нет!
— Пусть напишет наш, и повесим дома. — Она улыбнулась, изображая невинную просьбу, и в ответ получила согласие, выраженное поглаживанием по руке.
Художник ничего против совместного портрета не имел, сказал только, обращаясь к мужчине:
— Начнем все равно с вас. Так проще. Женщины же всегда всем недовольны. То щеки слишком пухлые, то скулы слишком высокие, то рот кривой, то нос длинный. Вот и приходится переделывать, переписывать и подправлять. Так что давайте уж с вами закончим, а потом и за супругу вашу возьмемся.