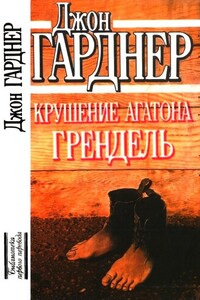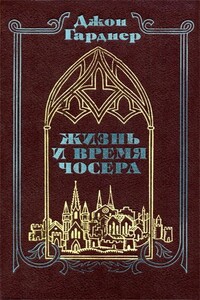Вряд ли мне стоит рассказывать о разных мелочах, свидетелем которых я стал потом. Тогда мне все казалось поразительным, на редкость интересным, но, поразмыслив, я вижу, что все это пустое. Прибегнув к риторике и разного рода уловкам, я мог бы, наверное, воссоздать для вас тогдашнее состояние моего ума, но я отказываюсь опускаться до подобной глупости. Достаточно сказать, что видел Ахава[12], расщепленного молнией с головы до пят, нудно спорившего с доктором Джонсоном Босуэлла[13] (порою грозя его ударить «хорошенько, справа, прямо в лицо», — конечно, к ужасу последнего) об имманентности трансцендентности; видел Скруджа[14] и Паломника Беньяна[15], речи которых звучали для меня удивительно схоже; разговаривал с Эммой, героиней Джейн Остин, которая вовсе не была такой уж хорошенькой, какой я ее представлял себе, и показалась мне до странности нетерпимой по отношению ко всему… и т. д.
А теперь я перескочу на другое и расскажу, в чем суть дела; я уже несколько часов провел с этими видениями, или призраками, или реальностью, когда в библиотеку вошла моя жена в ночной рубашке — все говорят, что она весьма красива, — и спросила:
— Уинфред, ты собираешься спать?
Я знал, что это угроза и предложение одновременно. Повернувшись и взглянув на нее, я ответил:
— Скоро приду, я не совсем кончил.
Она еще постояла, ожидая. Сейчас ее красивая грудь и бедра, хорошо очерченные рубашкой, мне показались почти что смешными. Ведь если реальность достаточно долго находится рядом, суть ее становится банальной. Жена повернулась, вильнув бедрами — любая актриса назвала бы это штампом, — и исчезла под низким сводом входа или, в этом случае, выхода. Уже стоя в дверях, она сказала:
— Не забудь, завтра день посещений в клинике. Ты занят, конечно, я знаю…
И в этот момент, словно вызванное к жизни ее словами, со страшным визгом из книг вырвалось нечто и кинулось прямо на меня. Вначале я даже не понял, что это такое. Вспыхнув ярче взорвавшейся звезды, что-то двигалось на меня с грохотом и ревом шаровой молнии. Но в последний миг я разглядел абсолютно ясно: это был Ахиллес, герой моей юности, я впервые прочитал о нем в шестнадцать лет. Ни слова не говоря, ни минуты не колеблясь, он поднял свой меч и ударил меня. В изумлении смотрел я на кровь, хлынувшую потоком на мою грудь из глубокой раны на шее. В ужасе я взирал на Ахиллеса — я скорее боялся, чем не верил. Непостижимо! Он был поборником абсолютной справедливости, судьбою, ниспосланной богом, карающей десницей, а я — я заорал это во всю мочь — я был не виновен! Он недоуменно смотрел на меня. То ли он не говорил по-английски, то ли был поражен, что человек, столь тяжко раненный, может разговаривать. Он снова поднял свой гигантский меч, чтобы ударить меня.
Откуда-то издалека я услышал крик жены — Уинфред! — Затем снова, где-то ближе — Уинфред![16]
Он прислушался и повернулся, недоумевая более, чем прежде. Осторожно, чуть смущенный, он снова поднял свое гигантское поблескивающее оружие.
Жена была уже за моей спиной.
— Как ты кричишь! Ты с ума сошел? — настойчиво спрашивала она. А он стоял, поигрывая своим оружием, как будто перед ним был цыпленок, который нервно дергает шеей на колоде.
— Уинфред! — прошептала жена. — Что на тебя нашло?
Ахиллес, поборник правды и справедливости, оглянувшись через плечо, словно искал поддержки, замахнулся вновь, на этот раз слабо, неуверенно, однако клинок все же перерезал сухожилие, на котором держалась моя шея.
— Уинфред! — кричала моя жена. — Что с тобой! Ну скажи же что-нибудь!
Я сидел наклонившись вперед, стараясь, чтобы она ничего не заметила. Поняв, что я не намерен ни разговаривать, ни двигаться, она круто повернулась и, сердито бормоча что-то себе под нос, направилась к двери.
Не стану делать далеко идущих выводов, скажу только, что тогда, там, я знал, что умираю.
И хотя времени остается все меньше и каждое слово, написанное мною, еще более зыбко, чем предыдущее, — позвольте мне сделать паузу и обсудить эту столь необычную ситуацию. Если я оборву предложение посредине, это и будет конец. До свиданья. Да хранит вас господь. Вот видите, я молюсь, пока есть еще силы.