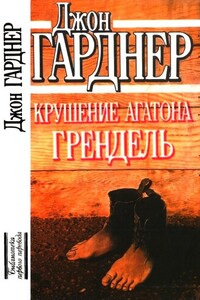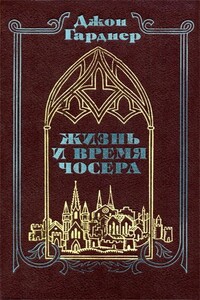У каждого, кто выживает в этом мире, есть хотя бы одно убежище, где он спасается от тягот жизни, и для профессора Альфреда Клингмана таким убежищем была музыка, поскольку жена его преподавала игру на фортепьяно. Когда бы ни объявляли концерт — а концерты бывали почти каждый вечер, за исключением летнего времени, так как город наш славился музыкальной школой и у нас были симфонические оркестры, профессиональный и любительский, и бесчисленные хоры, — профессор Клингман, волнуясь, тщательно одевался в старый коричневый костюм и белую, скорее уже желтую рубашку, нацеплял черный галстук-бабочку, влезал в длинное коричневое пальто и коричневую шляпу и, схватив палку и поспешно оглядев себя в зеркале, как сделал бы это дирижер оркестра или прославленный солист, торопился в концертный зал с паническим, почти безумным видом, выставив вперед улыбающееся близорукое лицо. Войдя в вестибюль, он первым делом испуганно сверял свои карманные золотые часы с висевшими над окошком билетной кассы. Хотя у него неизменно оставалось в запасе минут двадцать, он все с тем же лихорадочным беспокойством сдавал в гардероб пальто и шляпу, с помощью кривой коричневой палки взбирался по широким ступеням, покрытым красным ковром, и шел к своему обычному месту в первом ряду балкона с правой стороны, где, по мнению его покойной жены, слышно было лучше всего. Только тут напряжение его немного спадало, и он застывал на месте, лишь слегка дрожали руки да поблескивали бесцветные глаза. Профессор Клингман метал тревожные взгляды в постепенно заполнявшийся зал. У него были кустистые рыжие брови, крупный бугристый нос, огромные и розовые, точно цветы, уши. Из них торчали пучки рыжих волос (в одном ухе был большой серый слуховой аппарат); такие же рыжие пучки росли из ноздрей, а пальцы его обросли желтоватым пухом. Только на макушке волосы были седые.
Иногда до того, как оркестр выходил на сцену, он застенчиво совал соседу программу, тыча пальцем в какой-нибудь ее пункт:
— Простите, что это такое? Что за вещь? Вы ее знаете?
Вопросы звучали резко, пожалуй, даже назойливо, потому что после смерти жены он почти разучился разговаривать. Ведь все переговоры вела, разумеется, она. А сейчас можно было, того и гляди, подумать, будто, несмотря на улыбку, профессор Клингман яростно осуждает пьесу (возможно, он вообразил, что это безнравственное или фашистское сочинение) и ждет только подтверждения, что это именно так, чтобы, окончательно ожесточившись, вскочить, выкрикнуть что-то оскорбительное своим визгливым голосом и сорвать концерт. Если сосед, как это порою бывало, хорошо знал произведение и мог напеть несколько тактов, профессор Клингман, просияв, начинал шумно благодарить срывающимся от волнения голосом: «Да, да, спасибо!» Не знакомые с ним люди не могли знать, что в прежние годы, когда он приходил в концерты с женой, она всегда разъясняла ему, к какой пьесе следует отнестись благосклонно. Глядя на его странное поведение в концертном зале, человек, лишенный сострадания, мог вполне усомниться в том, что чувства его глубоки и искренни, и уж несомненно он был несносен для всех — даже для людей пожилых и снисходительных. К тому же для такого ревностного посетителя концертов он был странно несведущ в музыке. Он не мог узнать ни одной симфонии ни по номеру, ни по тональности, кроме Пятой симфонии Бетховена, но даже и ее тональности он не мог запомнить.
Но, с другой стороны, никто больше чем он не отзывался на звуки страданий, добра, биение сердца самой музыки. Слушая Малера и даже самые сдержанные, наиболее бесстрастные пассажи Брукнера, профессор Клингман заливался слезами и временами громко всхлипывал, отчего сидевшим вокруг становилось не по себе. Иногда же он вдруг принимался хохотать, уловив музыкальную шутку, и было совсем непонятно, как человек, столь несведущий в музыке, мог ее услышать, ведь музыкальные шутки понять очень трудно. И даже если в музыке не было ни трагедии, ни шутки, она просто пела, будто вела разговор со слушателями — как, например, в одном из наименее драматичных концертов Моцарта, — профессор Клингман все же ухитрялся выводить из себя соседей. Он вдруг начинал слегка постукивать ногой или кивать (слегка нарушая ритм), а иногда, в особенности если исполняли Кабалевского или Листа, отбивал такт свернутой в трубку программой. Соседи касались его плеча, вежливо, но строго шептали ему что-то на ухо. В подобных случаях он приходил в поистине трогательное раскаяние, длившееся, впрочем, всего лишь несколько минут. Люди снисходительные старались не обращать на все это внимания и, когда разговор заходил о его поведении на концертах, говорили: «У бедняги ведь нет ничего, кроме музыки» или: «Понимаете, он одарен способностью глубоко чувствовать. К великому сожалению, большинству людей это не дано». Его знали все билетеры, а руководитель струнного квартета музыкальной школы всякий раз, завидев Клингмана на концерте, улыбался ему. Но, конечно, нельзя сказать, что все его любили. Иногда дурно воспитанные дети и даже студенты колледжей зло передразнивали его — отбивали такт программой, дергали головой, делая вид, что глотают слезы. На подобные насмешки Клингман просто не обращал внимания. От первой и до последней ноты, даже если концерт был ужасный, профессор Клингман парил в небесах.