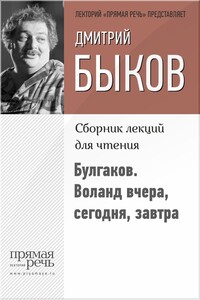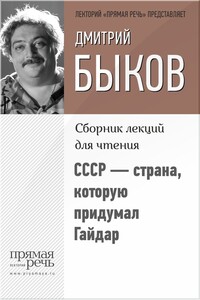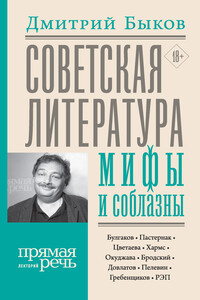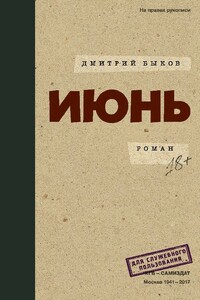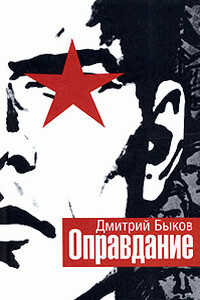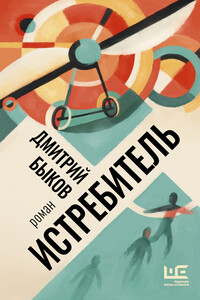Уайльд и его душа
Когда говоришь об Уайльде, сталкиваешься с рядом довольно занятных предрассудков. Это заметил еще Владимир Набоков, сказавший, что эстетизм Уайльда со временем совершенно перестал восприниматься, остались только сентиментальность и довольно забавный старомодный морализм, хотя вот уж в чем Уайльда труднее всего заподозрить.
Думаю, главный парадокс Уайльда заключается в том, что его время пришло только сейчас. Ответ на вопрос, почему так вышло, дает его очень недурное эссе «Душа человека при социализме» (1891), совершенно сегодня забытое. В этом эссе есть чрезвычайно важные прозрения. Уайльд понимал социализм весьма своеобразно: как царство изобилия, равных возможностей, экономической независимости, упразднения собственности. Собственность, считал он, это проклятие, потому что ее необходимо постоянно приобретать, о ней заботиться, а человек рожден творить. Он даже вывел такую формулу: «…прошлое есть то, куда не следует возвращаться. Настоящее – то, где оставаться не до́лжно. Будущее – вот обитель художника»[28]. Формула эта довольно близко корреспондируется с известной мыслью Ницше, что человек есть то, что должно быть преодолено.
Чем же будет заниматься человек при социализме? Здесь Уайльд удивительно радикален. Все привыкли, что он не мыслитель, что его парадоксы, как говорил большой его любитель и пропагандист Корней Иванович Чуковский, – это общие места навыворот: «Всё навыворот, всё наоборот в этом перевернутом мире, не только образы или сюжеты, но и мысли». А между тем Горький защищал Уайльда от этого упрека и говорил, что в этих общих местах содержится блистательная жизненная программа.
При социализме, как представляется Уайльду, будет отменен существующий порядок вещей, потому что улучшать этот порядок – значит способствовать укреплению самого отвратительного, что в нем есть. Многие сегодня полагают, говорит Уайльд, что надо помогать бедным. Между тем, помогая бедным, мы лишь сохраняем их в статусе бедных; «такими средствами болезнь не излечить: можно лишь продлить ее течение». Нужно радикально изменить среду, «попытаться преобразовать общество на новой основе, при которой нищета сделалась бы невозможной». Помогая рабам, говорит Уайльд, мы делаем их еще более рабами, и в этом он абсолютно совпадает с Чеховым. «Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья… – говорит герой рассказа «Дом с мезонином» (1896) Лидии, учительствующей в деревенской школе. – <…> Вы приходите к ним на помощь с больницами и школами, но этим не освобождаете их от пут, а напротив, еще больше порабощаете». Неожиданно обнаруживаешь, что Уайльд и Чехов – два странных двойника, причем двойника абсолютно во всем: Чехов тоже терпеть не может социальные проблемы и высоко ценит эстетические, он рассказы свои строит по уайльдовскому принципу – в них нет морали никогда, как свод правил Чехов мораль отрицает. И в биографиях их много параллелей. Правда, в 1895 году Уайльд отправился в Рэдингскую тюрьму не совсем добровольно, а Чехов несколько раньше, в 1890 году, поехал на Сахалин абсолютно добровольно, но то, что двух самых последовательных эстетов влекло в самое неэстетичное место, – безусловно, очень знаковое совпадение.
Уайльд говорит, что забота о бедных всегда лицемерна, «милосердие такого рода растлевает и деморализует человека»; по большей части забота эта нужна нам исключительно для того, чтобы уважать себя, а помощь нищим – это всегда форма откупа (великолепная формула, которая, по сути, ставит крест на любой благотворительности). Когда мы делаем вид, что помогаем ближнему, когда мы заботимся о чьем-то процветании, мы прежде всего избегаем наших главнейших обязанностей по воспитанию собственной души, «ибо в этом, а не в физическом труде призвание человека». И вот здесь поражаешься тому, какой Уайльд, как говорил о нем Чуковский, «уже давно наш русский, родной писатель». Ведь это наша родная толстовская мысль! Помните, Толстой, разбираясь со знаменитым тезисом Золя о том, что труд совершенно необходим, говорит: проповедь труда, работы, которая так популярна сегодня в Европе и которую так активно проводит в своих сочинениях Золя, это не что иное, как проповедь духовного сна, духовного самозабвения. Эти люди трудятся только для того, чтобы забыться, а на самом деле единственная обязанность человека – работа по совершенствованию собственной души. Самое интересное, что при этом оба автора обрушиваются на Золя, Золя им совершенно поперек души. Уайльд, к примеру, в «Упадке лжи» (в «Упадке искусства лжи» в другом переводе, 1889), еще одном своем замечательном эссе, говорит: «Г-н Раскин