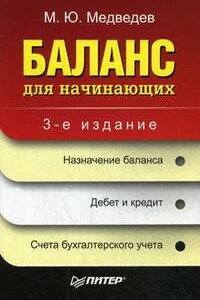Император Павел Первый и Орден св. Иоанна Иерусалимского в России - страница 36
С основанием Российского приората в ноябре 1797 года две геральдические традиции, как и две «опекающие» их юрисдикции, пришли в соприкосновение. По конвенции (статья XXXVI) император обеспечивал мальтийским рыцарям право пользоваться в России всеми привилегиями, «коими знаменитый орден пользуется в других местах по уважению и благорасположению Государей».[112] Это пожалование позволяло кавалерам сохранять в пределах империи традиционные для Державного ордена общие правила оформления гербов.
Конечно, ни из этой статьи конвенции, ни из других ее частей невозможно вывести подтверждение российской короной отдельных гербов, принятых в Ордене, или же «увольнение» употребляемых в России иоаннитских гербов из ведения имперских властей. Мальтийская юрисдикция не сливалась и не соединялась с имперской; орденское утверждение герба, как и прежде, имело в России статус вполне законного, но иностранного. Полную силу орденское признание имело лишь в пределах рыцарского государства на Мальте. В других странах такой герб мог употребляться при отсутствии противоречий с местными законами и обычаями.
Между тем 1 января 1798 года последовало Высочайшее утверждение первого тома Общего гербовника и приложенного к нему манифеста, установившего достаточно строгие правила геральдического учета в России: «Все гербы в Гербовник внесенные оставить навсегда непременными так, чтоб без особливого НАШЕГО, или Преемников НАШИХ повеления, ничто ни под каким видом из оных не исключалось и вновь в оные не было ничего прибавляемо».[113]
Разумеется, это установление следует толковать в контексте геральдической традиции. Недозволение исключать что-либо из герба не означало того, что герб нельзя изображать в сокращенном виде (например, без намета, без шлема, в некоторых случаях — с упрощенной композицией щита и т. д.). Точно так же строгие формулировки манифеста не воспрещали включать в герб орденские знаки (по крайней мере высочайше дозволенные к ношению в России) и традиционные должностные атрибуты (из числа которых, впрочем, в России были привычны только фельдмаршальские жезлы). Этот же принцип, истолкованный в духе XXXVI статьи русско-мальтийской конвенции, позволял российским бальи Ордена вводить capo dell'Ordine в свои гербовые щиты, не нарушая геральдического законодательства империи.
Ярким примером может послужить герб князя Александра Борисовича Куракина — того самого, который в детстве играл с маленьким Павлом Петровичем в «кавалеров мальтийских». В 1797 году князь, уже в чине вице-канцлера вместе с Безбородко представлял российскую сторону при подписании конвенции с Орденом. Брату же его, генерал-прокурору Алексею Борисовичу, было поручено руководить составлением Общего гербовника. Вскоре князь Алексей оказался в немилости; но это не помешало родовому гербу Куракиных попасть в первый том Гербовника и получить утверждение 1 января 1798 года.[114]
К этому времени (с апреля 1797 года) князь Александр уже был почетным бальи и кавалером Большого креста Державного ордена. Впоследствии, в 1801 году, ему довелось возвыситься до конвентуальнго бальи и великого канцлера. На протяжении своей орденской карьеры князь неоднократно пользовался своим родовым гербом, дополненным capo dell'Ordine, орденским знаком на ленте и крестом позади щита.[115]
Апелляция к прецедентам требует осторожности. Необходимо учесть, что соблюдение геральдических норм, провозглашенных в манифесте 1 января 1798 года, оставляло желать лучшего. Гербовник составлялся медленно — это было естественным затруднением. Тревожнее было то, что не утвержденные версии утвержденных гербов продолжали употребляться во множестве. Достаточно упомянуть еще два выдающихся русских семейства, связанных с Орденом, — графов Шереметевых и князей Юсуповых. Их гербы мы находим соответственно во второй и третьей частях Общего гербовника, утвержденных в 1798–1799 годах. Тем не менее история употребления гербов обоих семейств на протяжении всего XIX столетия была буквально переполнена геральдическими недоразумениями.[116] Во всем отразилась гербовая неграмотность большинства подданных Павла I; но прежде всего ответственность за беспорядок ложится на тех, кто работал непосредственно над составлением Гербовника и не сумел привести его в равновесие с живой практикой и нуждами российского дворянства.