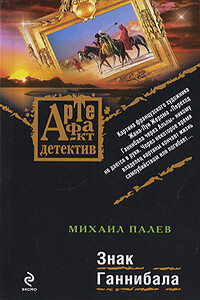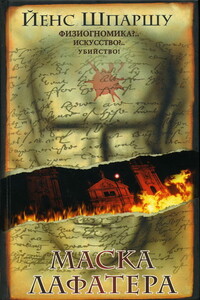Стальные прутья решетки не мешают мне видеть тюремный двор — белый, усыпанный снегом квадрат, со всех сторон замкнутый темными, кажущимися почти черными зданиями. Отсюда, из комнаты для допросов, они меньше всего похожи на обычные городские постройки: ни балконов, ни подъездов, а вместо окон — узкие, смахивающие на бойницы прорези в толстых кирпичных стенах.
В углу двора — заключенные. Трое соскребают снег деревянными лопатами, четвертый идет следом, подметает асфальт куцым домашним веником. Работают не спеша, вполсилы, старательно сгребая снег в аккуратные кучки, которые потом, судя по всему, так же тщательно и неторопливо соберут в одну большую, чтобы погрузить в самосвал, стоящий здесь же, во дворе.
Я вижу, как издали к административному корпусу движутся две фигурки. С высоты четвертого этажа они кажутся неправдоподобно маленькими, но не настолько, чтобы я не узнал человека, шагающего впереди. Его ведут ко мне. Это мой подследственный Красильников.
За ним, щеголяя новенькой отутюженной формой, идет сопровождающий — прапорщик, которого я раньше не видел. Собственно, и не мог видеть, потому что у входа в административный корпус сопровождающие меняются и после повторного личного досмотра, а проще говоря, обыска в специально отведенном боксе, заключенного ко мне на четвертый этаж поведет другой человек. Таков порядок.
Игорь Красильников, ради встречи с которым я нахожусь здесь, в следственном изоляторе, одет в черную стеганую фуфайку, синие хлопчатобумажные брюки, на ногах грубые, с заклепками, ботинки. Учитывая расстояние, рассмотреть столь мелкие подробности, разумеется, трудно, но я уже имел возможность видеть его в этом одеянии раньше. Руки, как и положено, он держит сзади. По движению головы можно догадаться, что он щурится на свет, отводит глаза на кирпичные стены, дает им привыкнуть к слепящей белизне снега. Так и идет, глядя не вперед и не под ноги, а двигая головой из стороны в сторону, отчего кажется скорее любопытным экскурсантом, чем заключенным. Думаю, ему хочется по возможности растянуть считанные минуты, отпущенные на дорогу, подольше побыть на воздухе, под чистым в эту пору небом. При известном воображении — а его у Красильникова, как я успел убедиться, с избытком — можно представить, что ты на свободе, ненадолго забыть об идущем сзади конвоире, и тешить себя иллюзией, что чем дольше ты будешь находиться вне камеры, тем быстрее пробежит время заключения. Нужно признать: в положении моего подследственного без такого самообмана обойтись трудно.
На середине двора он медлит, полуобернувшись к сопровождающему, что-то говорит ему — наверное, просит не спешить, — и тот великодушно укорачивает шаг.
Что-что, а просить он умеет — это точно. Когда надо, умеет вызвать жалость, сочувствие. Однако сейчас — и именно сейчас, а не днем или двумя раньше — его маленькие хитрости не вызывают во мне никакого отклика. Этому есть серьезные причины: хитрость всегда одна из личин лжи, особенно в его, Красильникова, положении, а после той большой лжи, на разоблачение которой потрачено полных четыре недели, маленькая становится неинтересной.