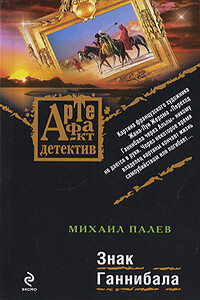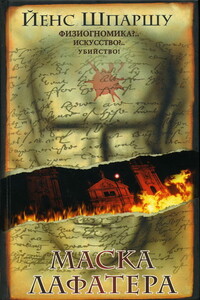Собственно, оба мы заблуждались. Каждый по-своему. С его точки зрения мое поведение в эти дни было более чем подозрительным, а сам я до последнего считал Шахмамедова наиболее вероятным кандидатом на роль обвиняемого. Лишь после перепалки, подслушанной в кулуарах «Юбилейного», начал догадываться, что он ни при чем, но и тогда не предполагал, что моя попытка выручить его из беды закончится для меня столь плачевно…
Я сосредоточился, стараясь унять нараставшую головную боль. Ненадолго это удалось.
— Утром первого октября, — продолжал Симаков, — на Приморскую пришел Герасимов. Вместе с Сопрыкиным они посетили бар «Страус». Это насторожило вас. Подозрения усилились еще больше, когда они пошли к «Интуристу», где встретились со Станиславом Маквейчуком. Утверждение Сопрыкина, что он и раньше останавливался на Приморской, его активность и узкая избирательность в контактах навели вас на мысль, что он — работник милиции. Вечером Сопрыкин вторично посетил бар, а когда вышел оттуда, следом за ним выбежал Герасимов. Вы в панике. Задуманное и осуществленное с математической точностью преступление может раскрыться из-за единственной неучтенной вами мелочи. О способе совершенного вами преступления знают уже трое. Шахмамедов до поры обезврежен, он под вашим контролем. В молчании Маквейчука вы тоже уверены — тому невыгодно рассказывать первому встречному о своем лопнувшем прожекте. С Герасимовым совсем иначе. Он ближайший помощник Маквейчука, наверняка знал о его намерениях, но он поглупей и может проболтаться о черном ходе, которым воспользовался преступник. В этом случае милиция получила бы сведения, которые, по вашему мнению, заставят ее отказаться от версии о несчастном случае. Возникнет другая версия — о сообщнике, а этого вы боитесь больше всего. Герасимов становится опасным, и это решило его участь. Если до Якорного вы были только грабителем, то там, Юрковский, вы стали убийцей…
До меня не дошел смысл последних слов Симакова.
Почему в Якорном? А Кузнецов? А одежда, подброшенная на пляж?
Я даже не пытался вникнуть в это противоречие. И комната, и люди, и стул у окна с сидевшим на нем флейтистом подернулись дымкой, отдалились. Перед глазами вдруг всплыла луна, дорога, искаженное злобой лицо Стаса. Где он? Задержан?
Я хотел спросить об этом, но не успел…
Когда я очнулся, стул у окна был пуст — Юрковского уже увели. Парень в милицейской форме продолжал возиться с бумагами, а Симаков сидел в кресле напротив, держа руку у меня на колене.
— Ну вот и молодцом, лейтенант, — сказал он. — Таким ты мне больше нравишься.
Не знаю, что ему во мне понравилось, но чувствовал я себя паршиво.
— Говорить-то можешь?
Я выдавил из себя какой-то невнятный звук.
— Ладно, ладно, вижу, что можешь. — Он подавил улыбку. — Не горюй, Сопрыкин, до свадьбы заживет. Кости целы, а царапины пройдут. И то сказать, сам виноват, зачем лез на рожон, дача-то блокирована была, на полсекунды ты нас опередил… — Из сострадания он не стал развивать эту тему. — Ничего, теперь ты у нас тот самый битый, за которого двух небитых дают. Отдохнешь денек-другой — и за работу.
— Стас… — прошепелявил я.
— Здесь он, задержан, — успокоил он. — Ты его так спеленал, что насилу развязали. — Помявшись, он добавил: — Тут вот какая штука, Володя, ты еще не знаешь… — Симаков убрал с колена невидимую пылинку. — В общем, Кузнецов жив…
«Ну и шуточки у него», — подумал я, но Симаков не шутил.
— Жив Кузнецов, — повторил он. — Мы нашли его тут, в подвале. В бессознательном состоянии, потому и задержались. Сейчас над ним медики колдуют. Юрковский его больше двух недель какой-то дрянью пичкал…
Я перевел взгляд на стул у окна, на котором раньше сидел Вадим.
— Говорит, что не хотел убивать Кузнецова, — объяснил Симаков. — Рука, говорит, не поднималась. Собирался вывезти после фестиваля, а потом шантажировать: так, мол, и так, исчез, мол, вместе с выручкой, считаешься погибшим, а потому вот тебе на первые расходы и кати на все четыре стороны. Так-то, брат…
Он встал, подошел к двери и заговорил с кем-то стоявшим снаружи. Потом вернулся ко мне.