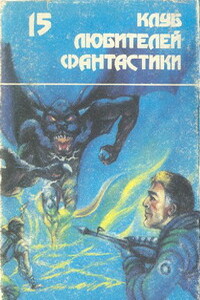Я чувствую, что вот-вот потеряю сознание. И падаю на стул. Раскин, казалось, этого не замечает.
— Вероятно, то же самое можно сказать о любом из нас. Надеюсь, и обо мне. Однако любого из нас можно представить чем-то вроде гобелена, и нити, из которых этот гобелен соткан: честность, бесчестие, ум, тупость, — отчетливо видны. А в случае Тернера сама ткань смята, скручена, разодрана. Рассматривая одну нить, вы никогда не поймете, составляет она неотъемлемую часть целого либо появилась из-за случайной прихоти ткача. Или же такая нить — ложный намек, намеренно вплетенный в ткань, дабы озадачить вас и запутать.
Он замолкает. Рассматривает свои пальцы. Брезгливо стряхивает с них известковую пыль.
— Вам известны, конечно, заблуждения надежды?
Диковатое, но достаточно понятное выражение.
— Если я и не был знаком с ними раньше, то в последние месяцы вынужден был познакомиться.
Раскин не может удержаться от улыбки.
— Я не имел в виду ваш личный опыт, мистер Раскин, но magnum opus Тернера.
— «Заблуждения надежды»?
Он кивает.
— Вы не слышали об этом творении?
— Нет.
Он поднимает густую бровь. Очевидно, в его мнении я падаю еще ниже, если подобное возможно. Он закрывает глаза, припоминая что-то, и возглашает:
— Чуть не сгубило поход
Вероломство союзных салассов
Вновь с Ганнибалом они,
— Это первые строчки надписи на полотне тысяча восемьсот двенадцатого года — «Ганнибал, переходящий Альпы». Безусловно, Тернер и раньше подписывал свои картины стихами, но выбирал обычно стихи других поэтов, хотя часто цитировал их неправильно или совсем искажал. А здесь имеется подпись: «Рукописное. Заблуждения надежды». И она стала появляться на его полотнах опять и опять, каждый раз — под новыми стихами. Какое же напрашивается объяснение?
Мои мысли блуждают слишком далеко, и я не сразу нахожу ответ.
Раскин повторяет:
— И каков же смысл?
— Ну… у Тернера… Тернер написал поэму. Он не опубликовал ее. И выбирал из нее отрывки, которые годились для подписей.
— Точно. Тернер, несомненно, знал, что создастся такое впечатление. И все-таки — это неправда.
— Поэмы не было?
— Не было как единого целого. Когда требовалось, Тернер всего лишь составлял строчки или заимствовал их у других писателей. Этот ложный след, вы согласны?
Раскин поднимает палец и ведет им по незримому полотну.
— Всплеск цвета здесь — и здесь тоже — и вам кажется, что они нанесены одним и тем же длинным мазком, но это не так. Иллюзия.
Я едва нахожу в себе силы спросить:
— В таком случае, ничему нельзя доверять?
Раскин пожимает плечами и вглядывается в меня с любопытством, словно впервые увидел. Потом произносит:
— Чем вы встревожены, мистер Хартрайт?
И я рассказываю. Рассказываю о Фэрранте и Харгривсе; о нашем обеде на Фицрой-сквер и о моем последующем похищении — о Люси, о капюшоне, о веревках. Я рассказываю ему о Тревисе, о записной книжке Мэриан и о моих растущих подозрениях по поводу Истлейков (тут Раскин не может сдержать холодной улыбки). И о встрече с Симпсоном, и о том, что я не уверен, не приснился ли он мне; и о сеансе у миссис Маст. Я не знаю, чему верить, говорю я Раскину.
Впрочем, не желая выглядеть до конца экстравагантным, я не упоминаю о посещении двух проституток.
Кажется, Раскин даже не удивлен. Он кивает и молча на меня смотрит.
А я ощущаю облегчение, ибо рассказал очень много и не был остановлен, опровергнут или осмеян. Впрочем, груз того, что не сказано, продолжает терзать мои внутренности, как крошечный горячий уголек.
Боже, если бы освободиться и от этого! Поведать все до конца, признаться: я обнаружил в себе тьму и страх, о существовании которых даже не подозревал. И не слышать протестов в ответ — какое облегчение! Лишь такого облегчения я жажду.
Но оно недосягаемо. Даже сейчас, выводя эти строки, я знаю это.
О Боже.
Писать. Писать. Записывать.
Раскин встает. Он осматривает ящики у стен, находит нужный и осторожно достает его. Потом приносит к столу и, порывшись в кармане в поисках ключа, отпирает.
— Им двигали, несомненно, глубокие, греховные страсти и заблуждения, — говорит Раскин, — и, пожалуй, я не в силах понять их. Ясно лишь то, что все они — плод безверия и отчаяния. Ибо наш век — век отчаяния; век, чье разъедающее влияние одинаково пагубно и для величайших, и для простых умов.