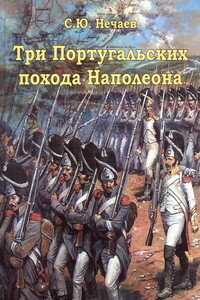— Я и не думала, что Станислав такой рассудительный человек. Мне всегда казалось, что он всех нас ненавидит, а ты гляди, оказалось, что он предан нам.
Текла была рада — есть хотя бы видимость, что кто-то разделяет с нею преданность дому Билинских. Вся жизнь ее проходила под сенью «великолепной» жизни этого дома, и она от всей души желала, чтобы жизнь эта и впрямь была «великолепной», то есть внешне блистательной. Темным пятном казалась ей только женитьба Януша и его тусклая, заурядная жизнь где-то на отшибе. В Зосе она видела причину того, что Януш удалился от «света», и поэтому все свои сетования и сожаления выливала на ее голову. Однако на этот раз говорить с молодыми ей пришлось недолго — появился Станислав и попросил выдать ему на завтра скатерть и салфетки, и она тут же вышла за ним, тихо ступая в своих войлочных, отделанных мехом туфлях.
Януш и Зося остались одни. Зося начала раздеваться, Януш сел в кресло, закурил и стал вспоминать то время, когда он холостяком занимал эту комнату и, учась в Высшей торговой школе, мечтал о поездке в Париж. На миг припомнилась ему Ариадна и ее по-мужски, на парижский лад, остриженная голова. Тем временем Зося, достав из шкафа и накинув на себя розовый «варшавский» шлафрок, села на постель и тоже задумалась.
— Ты только представь, — сказала она вдруг, — здесь жизнь идет своим чередом — концерт, чай, картины, чистые салфетки, а там человек сидит в тюрьме. Упал камень в воду, а лягушки себе квакают, и камыши так же шумят…
Януш неумело пускал колечки дыма — курить он стал недавно. Помолчав некоторое время, он равнодушно отозвался:
— Так всегда было!
— Неправда, — с жаром воскликнула Зося, — неправда! Так было лишь тогда, когда шла борьба.
— А борьба идет всегда, — сонно буркнул Януш.
— Борьба! Но за что? — все с тем же жаром продолжала Зося. — И ты всегда все тот же. Борьба! Борьба! А сам дремлешь в этом кресле, пуская клубы дыма. И зачем только ты научился курить? — сварливо добавила она.
— Дорогая моя, неужели что-то изменится от того, что я буду кричать, повышать голос, махать руками? Ни моя судьба, ни судьба Янека от этого не изменится.
— От твоей болтовни наверняка не изменится.
— Это верно, — согласился Януш, — но я никогда не умел много говорить. И буду я говорить или не буду — не только наши судьбы, а и вообще ничего не изменится.
— Это еще вопрос — нужно ли, чтобы изменялось.
— Нет, тут двух мнений быть не может. Должно измениться! Но все зависит не от того, что я буду говорить, а только от того, что буду делать.
— Ты ничего не делаешь, — прошептала Зося.
— Абсолютно ничего, — откликнулся Януш.
И вновь выпустил несколько колечек дыма, внимательно следя за ними. Зося плотнее закуталась в шлафрок. Долгое время они молчали.
— Холодно тут что-то, — сказала Зося, — не хочется идти в ванную.
И вдруг заломила руки.
— Как я не люблю здесь ночевать! — воскликнула она патетически. — До чего мне здесь всегда не по себе! И мысли какие-то неприятные.
— А в Коморове мысли приятные?
— Так и стоит у меня перед глазами этот Янек, — продолжала Зося, не обращая внимания на вопрос Януша, — и насмешливый взгляд той девчонки, что смотрела на нас в гардеробе. Почему она смотрела на нас такими глазами? Отвратительная она, эта «Жермена».
— А знаешь, я не удивляюсь, что она так смотрела на нас. Думаю, что она абсолютно не понимала, как мы можем там находиться.
— Но ведь понимает же она, что такое концерт?
— Что такое концерт, возможно, и понимает. Но что такое концерт, когда арестован ее дядя, ее опекун, — этого наверняка не понимает. Мы этого тоже, вероятно, не поняли бы.
Зося шевельнулась на постели, но, вместо того чтобы встать, прилегла, отвернув угол одеяла, прикрыла ноги и задумалась.
— Значит, все прекрасное, что было там, — Эльжбета Шиллер, и эти песни Эдгара, и эта музыка, такая… ласкающая, нет, даже не ласкающая, а захватывающая, и Бетховен, которого мы не слушали, — все это ничего не значит только потому, что Янек Вевюрский сидит за решеткой?
Януш улыбнулся, нагнулся в кресле и положил свою ладонь на свисающую с постели руку Зоей.



![Мы снова уходим в бой… [Рассказы писателей Вьетнама]](/uploads/books/images/5a/5a62a203b13a98ebd37930a1d000a24a3faf28f3.jpg)