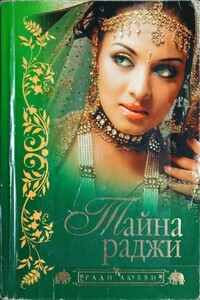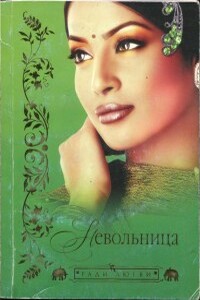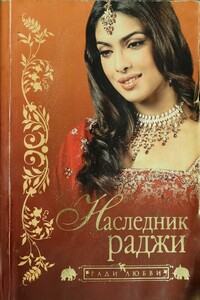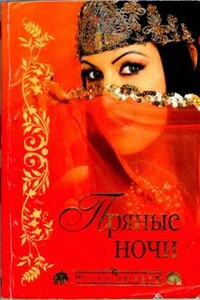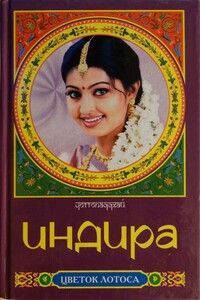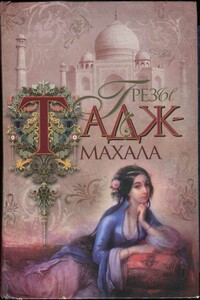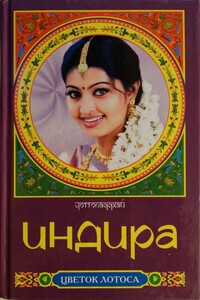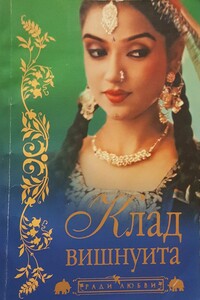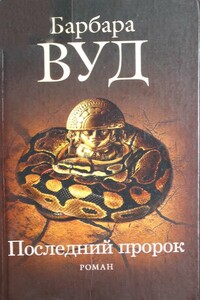«Ну и что же тут такого?» — спросит кто-нибудь. Однако Ногендро считал невозможным поступить так.
Словно прочитав его мысли, Рохмот сказал:
— Хузур, веревки старые, кто знает, чем это кончится? Ветер крепчает, не лучше ли покинуть лодку?
И Ногендро послушался его совета.
Не очень-то приятно торчать на берегу реки во время бури, когда даже крыши над головой нет. Приближался вечер, буря не утихала, требовалось срочно искать убежище, и Ногендро отправился в деревню. Та находилась довольно далеко от реки. Ноги Ногендро увязали в грязи. Вскоре дождь прекратился, ветер стих, однако небо по-прежнему затянуто тучами, значит, к ночи опять мог разразиться ливень.
Непогода приблизила ночь. Уже не было видно ни деревни, ни домов, ни реки. Только деревья, усеянные тысячами светлячков, сверкали так, словно их украшали бриллианты. Время от времени свинцовую гладь небосвода колыхали слабые вспышки молний — так женщина вздрагивает после сильных рыданий. Лягушки радовались прибавлению воды. Откуда-то доносилось стрекотание цикад, неумолчное, как потрескивание погребального костра. Шлепанье дождевых капель о листья и лужи, хлюпанье воды под лапами шакалов, шорох мокрых крыльев птиц — все это сливалось с завыванием ветра в однообразный несмолкающий шум.
Впереди замерцал огонек. Промокший, с трудом подавляя страх перед шакалами, Ногендро шагал по лужам. Через некоторое время, уставший и измученный, он достиг цели.
Это оказался старый кирпичный дом. Внутри его горел огонь. Двери были открыты. Оставив слугу снаружи, Ногендро вошел в дом. То, что он увидел там, ужаснуло его.
Дом был немаленький, однако убранство его свидетельствовало о крайней бедности хозяев. Грязный, разбитый двор кишел совами, крысами и насекомыми. Свет горел только в одной комнате.
Ногендро открыл дверь. В комнате находилось всего несколько вещей, без которых не обходятся ни в одном доме, но и они несли на себе печать глубокой нищеты: несколько глиняных горшков, развалившаяся печь, кое-какая медная утварь — вот, пожалуй, и все. Стены потемнели от копоти, в углах было навалено какое-то барахло, и повсюду тараканы, пауки, ящерицы, мыши.
На смятой постели лежал старик. Все говорило о приближении его последнего часа: его тусклые глаза, дрожащие губы, судорожное дыхание. У постели на кирпиче, вынутом из стены, стоял глиняный светильник. Масло в нем было уже на исходе, точно так же, как жизнь в груди умирающего. Рядом находился еще один «светильник» — девушка, излучавшая свет юности и чистоты.
То ли благодаря неровному, мигающему пламени светильника, в котором почти иссякло масло, то ли потому, что обитателей дома слишком поглощали мысли о предстоящей разлуке, появление Ногендро осталось незамеченным. Остановившись в дверях, он стал прислушиваться к прощальным словам старика. И старик, и девушка были одиноки в этом тесном мире. Когда-то и они знали богатство, имели слуг, друзей. Однако из-за непостоянства щедрой Лакшми[5] постепенно утратили все.
Первой уснула на песчаном берегу реки хозяйка дома. Она не нашла в себе сил перенести зрелище бледнеющих лиц детей, обреченных на нищету, — так увядает лотос, когда его коснется дыхание холодного ветра. Погас свет луны, и за ним стали меркнуть звезды. Сын, наследник, радость матери, в старости — опора отца, взошел на погребальный костер вслед за матерью. Кроме старика и красавицы дочери, никого не осталось в опустевшем, затерявшемся в лесу полуразвалившемся доме. И только друг в друге находили они утешение.
Но пришло время выдавать Кундонондини замуж. Кундо для отца являлась единственной опорой, как посох для слепого, единственным, что привязывало его к жизни. Старик не мог отдать дочь в чужие руки. «Пусть еще поживет со мной, — думал он. — Что будет со мной, если она уйдет? С кем останусь?» Но он не думал о том, что будет с его Кундо, когда его позовут туда. И вот теперь посланец Яма[6] стоит у его постели. Уже пора идти с ним. Что же будет с одинокой Кундонондини?
Каждый вздох умирающего говорил о мучительной боли. Из глаз, которые вот-вот закроются навсегда, неудержимо катились слезы. А у изголовья, словно каменное изваяние, в полузабытьи, не шевелясь и не спуская глаз с отцовского лица, которого уже коснулась тень смерти, сидела тринадцатилетняя девушка. Речь старика становилась все более невнятной, дыхание замерло, глаза потухли. Измученная душа избавилась от страданий.