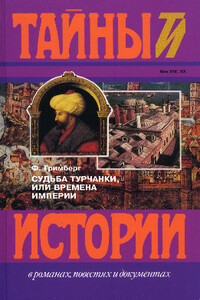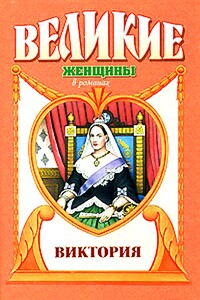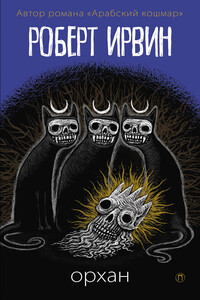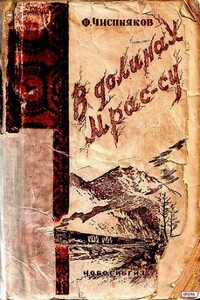А с Францем Матвеевичем беседовать было просто, уютно даже и невольно весело. Вот и сейчас он вошёл, чуть ускоряя шаг на ходу, отдал размашистый поклон, бывший в странном контрасте, в несовпадении с этой мягкостью, выраженной чертами лица. Мадам д’Онуа следовала за ним чуть семенящим шажком, то и дело сгоняя с губ улыбку довольства и притворяясь серьёзной. Анна улыбалась навстречу этой паре. Вид этих немолодых любовников почему-то наводил её на мысль о предстоящем ей (уже так скоро!) замужестве — как-то всё будет...
Франц Матвеевич восхитился искренне ее-нарядом. Белизна шёлка — чистота, драгоценная скромность принцессы великого государства... Но почему без уборов, без украшений?..
— Нет охоты. И это всего лишь семейный обед... И отец не любит...
Он снова рассыпался в комплиментах, в почтительных фразах о Его величестве...
— Но ведь сегодня вы встретитесь со своим женихом, гласно объявленным женихом!..
Усилием воли не дала краске явиться на щёки.
Приказала принести уборный ларец...
Франц Матвеевич тихо сообщил последние вести. День предстоял и вправду необычный. Кажется, государь вот-вот решится... Сегодня был намёк Андрею Ивановичу — кажется, государь император решается приступить вплотную к составлению завещания...
Замерла, кивнула легко...
В покои матери летела, чуть запрокинув голову... Ещё многое предстоит, много тяжеловесного, трудного, даже скучного; много расчётов и мыслей... Но покамест — в этот свой краткий полёт — она позволила себе упиться радугой надежды...
* * *
Напольные часы — золото и филигрань — пробили обеденное время в большом столовом покое государыни. Золотой купидон — языческий божок любви протягивал венок женской фигуре, окутанной в античное покрывало, — олицетворению дружбы.
Цесаревна вошла — белое шёлковое платье, гладкая причёска украшена несколькими флёровыми розовыми лепестками, драгоценностей — нет, одна лишь нитка скромного волжского жемчуга, оттеняющая тонкую шейку.
Худенький, сероглазый вскочил. Ей показалось, что он падает к её ногам... Ах, зачем? Неловко!.. Теперь, когда он был объявлен её женихом, любая его неловкость словно бы тень бросала и на неё... Вдруг ей показалось, что он и вообще очень неловок, и почувствовалось нечто вроде раздражения на него. Это, кажется, было совсем новое для неё чувство... Кажется, прежде она думала (и, должно быть, по-детски совсем), что когда человек уже принадлежит тебе, почти принадлежит, вот тогда-то и начинаешь любить его особенно полно и радостно. А вот оказывается, нет, не так... Оказывается, начинаешь даже и сердиться на него...
Но он не пал к её ногам, лишь поцеловал самый краешек белого платья. Она смущённо взглянула на сидящих за столом.
Отец улыбался как-то болезненно и будто жалел её и одновременно пытался оправдаться перед ней. Это было странно, и делалось так больно в сердце — за него, такого больного и уже старого. И мать рядом с ним была толстая, стареющая совсем, робкая какая-то и будто безмерно — до заискивания — благодарная отцу. Оба они вызывали жалость. И только Лизета сияла свежайшей розовой юностью и радостно улыбалась Анне... Самая младшая их сестра, Наталья, была ещё слишком мала для подобных семейных трапез...
Анна сама не понимала, почему ей вдруг захотелось быстро наклониться и провести кончиками пальцев — брезгливо — по краю своего платья — смахнуть, стереть прикосновение мужских губ... Он предложил ей руку, и было бы неучтиво отказать. Она протянула руку в ответ, и он, под испытующими взглядами двух немолодых болезненных — мужчины и женщины, её отца и матери, — повёл её к столу... Снова она ощутила раздражение — он всё делал не так, не так, как надобно бы; всё у него выходило как-то неловко и слишком... слишком слащаво, что ли... Но когда его тёплые, чуть дрожащие пальцы коснулись её пальцев и взяли её руку — самые кончики её пальцев — так робко и вместе с тем так бережно и с такой глубокой и затаённой нежностью, тогда она вдруг все его неловкости простила ему, и снова любила своего худенького, сероглазого, и радовалась тому, что она — его невеста...