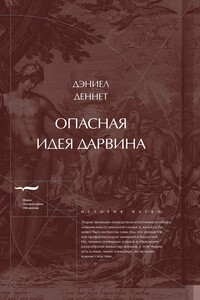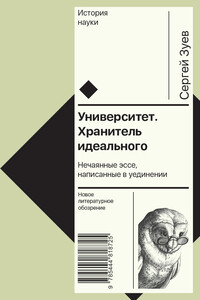. Критические высказывания в отношении своих прежних взглядов встречаются в дневниках неоднократно. Тем не менее именно по нескольким таким отрывочным записям в ранних дневниках можно попытаться восстановить более детальную историю начальных этапов становления Вавилова-философа.
Эти этапы характеризовались особым интересом к четырем философским темам.
О трех из этих тем, к сожалению, по имеющимся записям составить представление очень сложно (по-видимому, начало размышлений было в более ранних, не сохранившихся дневниках).
Первую тему сам Вавилов называл «принципом индивидуализации» – или принципом сохранения особи. «…„principium individuationis“[585], закон сохранения индивидуальности – 3-й великий закон, но нелепый, как оба другие. Самосохранение, размножение – одно и то же principium individuationis – кем и для чего придуманный? Видимо, без Бога ни до порога» (31 августа 1916). Упоминаний об этом принципе много в ранних дневниках – записях от 2 декабря 1909 г., 4 марта 1911 г., 19 и 28 августа 1915 г. (особенно выразительная запись), 2 октября 1916 г., но всего одно в поздних – «необходимо с самого начала постулировать качество сознания и principium individuationis» (15 января 1950). Три примера мыслей на эту тему из ранних дневников: «Меня интересует в вопросе о жизни не биологическая, не химическая, не философско-метафизическая сторона – а чисто физический вопрос. В проблеме происхождения жизни одни придерживаются того мнения, что omne is vivus ex ovo[586], другие если и не omne vivus[587]ex morto[588], то, по крайней мере, primus vivus ex morto[589]. Разбирая дело по существу, увидим, что разница не так велика и даже скорее разницы нет. Для большей ясности можно формулировать второе мнение проще – primus vivus ex atomikus[590]. Здесь и там – индивидуумы, там ovo[591], здесь atomus – individuum[592]. Вот с этой точки зрения и посмотрим. Из обоих положений вывод тот 1) что мир – агрегат индивидуумов 2) что индивидуумов (в свою очередь определенная агрегация), что есть индивидуумы разных порядков и, наконец, это главное, едва ли существуют индивидуумы первого и последнего порядков. Итак, мой вывод таков. Индивидуум – понятие относительное, т. е. абсолютно неделимого нет. А из этого две задачи науки 1) определить, объяснить устойчивость относительного индивидуума и 2) найти новую точку зрения, вне нелогичного – атома» (2 декабря 1909). «Principium individuationis – принцип сохранения особи – после принципа сохранения энергии самый страшный, самый таинственный принцип» (19 августа 1915). «Самоубийство… но заживут черви, атомы, электроны и новое движение ad infinitum[593]. Кончить движения нельзя… и где-то далеко улыбается стоящий. Все равно, но все равно движение и закон сохранения „неприступен и велик“. А движение построено на разделении. Divido ed impero[594] – ведь это не политический принцип, а физический, метафизический и религиозный. Divido et mundus moveo[595]» (2 октября 1916).
Вторую из важных, но пройденных тем своей ранней философии Вавилов называл «эстетизмом». Записей о нем очень много (см., например, записи от 8 апреля 1910 г., 28 июня 1912 г., 14 июля – в конце записи – и 31 декабря 1913 г., 1 января 1914). Тем не менее – хотя в 1909–1914 гг. слово «эстетизм» употребляется более 70 раз, – «что на самом деле имел в виду автор» этих зачастую интересных рассуждений, к сожалению, можно только предполагать. В записи от 15 июня 1912 г. упоминается в качестве завершившегося этап «научного эстетизма», который Вавилов называл также «леонтьевским» («Что осталось от меня, апатия, убогий леонтьевский эстетизм и бессилие» – 12 декабря 1911). «Эстетизм – это мое отношение к жизни и это, конечно, не идиотский уайльдовский эстетизм, а скорее эстетизм Леонтьева» (14 июля 1913). Философ К. Н. Леонтьев (1831–1891) и в самом деле оказал влияние на мировоззрение Вавилова: отголоски этого влияния через десятилетия можно увидеть и в его общественно-политических, и в его околорелигиозных идеях. Но что сам Вавилов считал «леонтьевским эстетизмом», непонятно.