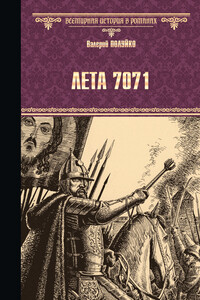У них и раньше случались стычки. Схватывались они с ним, когда он выступал против его ласкателей и шептунов, источавших свою злую наветь, схватывались, когда заступался за опальных, стараясь умерить его гнев, схватывались, когда отстаивал перед ним своё мнение или когда отваживался, как сейчас, давать советы, каких никто не отваживался давать, но никогда, в какую бы ярость ни приходил из-за этого Иван и какой бы жестокой карой ни грозился, — никогда ещё он не говорил ему ничего подобного. И тот гнев, что он обрушивал на него, всегда был только гневом души, — теперь же в царских словах устрашающе прозвучал и гнев его разума. Теперь он думал так, был убеждён, уверен в своём мнении, и эта уверенность, убеждённость приобретала силу закона — одного из тех непреложных, сугубых законов его души и разума, по которым он судил всех и вся.
Но не это было самым страшным. Висковатый понимал, что отныне любое его прекословие, любая попытка что-то защитить или отстоять будет расцениваться Иваном предвзято, и его уничтожающие слова: «Ты возомнил своей низкой душой!..» — будут отныне приговором любой его самостоятельности, приговором неотменимым, окончательным, который в любое время может быть приведён в исполнение.
И думал Висковатый: неужто теперь остаётся лишь одно — раболепствовать, пресмыкаться? Неужто разум, достоинство, совесть, добро, благочестие теперь опасны для него? Неужто для того, чтобы выжить, уцелеть, сохранить своё благополучие, нужно затворить душу, разум, закрыть глаза, заткнуть уши и затаиться в этой своей глухомани, боясь даже самого себя, своих мыслей, своих чувств? И допрашивал себя, как на пытке: сможет ли он так жить? Сможет ли? Сможет ли? Но скорый ответ не шёл к нему, а мысли уводили всё дальше и дальше. И думал он, что, должно быть, уж и так зря прожил свою жизнь, всецело отдав её этому человеку, и зря боготворил его, и зря верил в его высокий ум. Не было в нём высоты. Истинно высокий ум не жаждет раболепия, оно чуждо ему, ибо истинный ум знает свою силу и свою слабость, знает и свои пределы. Царь Иван не знал ни своей силы, ни слабости, ни пределов, казалось, он не знал и самого главного — того, что раболепие, угодничество, насаждаемые им, растлят и его.
Думал, думал Висковатый, и огорчался своим мыслям, и отвергал их, усомняясь в том, к чему они его приводили, и только одно было совершенно ясно для него — больше в их отношениях с царём не будет мира.
Настроение Висковатого передалось и приказным: все работали как-то уж на редкость сосредоточенно, молчаливо, и даже в редкие перерывы, дозволяемые Висковатым, старались не распускать языки, и уж тем более не лезли ни с какими разговорами к самому дьяку: знали, откуда он принёс свою сумрачность, и потому старались не беспокоить его. Лишь однажды один из подьячих, ездивший с Висковатым в составе посольства в Данию, не выдержал и, желая хоть ненадолго отвлечь его от тяжких дум, заговорил с ним:
— А я, батюшка, Иван Михалыч, всё Дацкую землю-то вспоминаю... Како ездили мы в неё посольство-то править. Что за земля?! Причудливая!
Висковатый не ответил, а подьячий с привздохом продолжал:
— А городы какие там! Особливо же стольный град, иде король их дацкой дворует.
— Да нешто Москвы нашей лучше? — спросил кто-то из писцов.
— Скажешь ещё, лучше! До нас им далече! У них и король плюгав!
— Да будет! Видал ты нешто того короля?!
— Не видал... Да каковому-то ещё ему быть?! Лютеранин же он! Вон и Иван Михалыч посвидетельствует... Он-то уж видал.
Висковатый опять отмолчался, а подьячий, приняв его молчание за поддержку, и вовсе пустился во вся тяжкая:
— И люди там — мелкота! Сухопары, не тельны — кряду одна мелузга. И всё больше пеши ходят. А в стольном граде в самом, подле двора королевского, — лес листвяной. А в лесе том — просеки прорубаны, и по тех просеках бабы нагие на подставах стоят... Для утехи глаз.
— Да ну? — изумился всё тот же писец. — И не зябнут?!
— А чего им зябнуть? Вот дурень! Каменные они.
...Третьего дня, к полудню, когда грамоту уже дописывали набело, явился в приказ дворцовый стряпчий и объявил Висковатому: