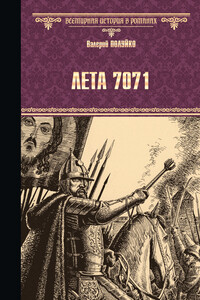— Не Писанием ты научен, а книжниками и фарисеями. Но да услышь слово Христа: «Ежели праведность ваша не превзойдёт праведности книжников и фарисеев, вы не войдёте в царствие небесное!»
Рука Епифания вознеслась в какой-то нечеловеческой угрозе, и Иван, кажется, впервые дрогнул перед ней. В его глазах, устремившихся за этой угрозливой дланью, промелькнул страх, но вряд ли то был страх, который мог помочь Епифанию одолеть его, убедить, смирить; да и не смиренности, не кротости хотел от него Епифаний, и даже не согласия и единодушия, — он хотел от него понимания, осознанности того, что называл избранностью, ибо без этого всё остальное было бессмысленно.
— ...Внимающего словам о царствии небесном, но не разумеющего их, Христос уподобил посеянному у дороги. Упомни, како растолковал он сию притчу: к таковому приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его.
— Буде, ты и есть тот самый лукавый, что тщится похитить посеянное в сердце моём? — сказал Иван с тягостным вздохом, и это «буде», лишившее его слова́ твёрдости, тоже было победой Епифания, маленькой, но победой. — Худо мне с тобою, ох как худо! — Иван откинулся к стене, мучительно застонал, скривился. — Жалею уже, что избрал тебя в духовные отцы. Ну что тебе надобно от меня? Пошто ты приходишь и мучишь, мучишь меня? Неужто мне мало мук? Поглянь, сколико врагов изощрили на меня зубы свои!
— Да, тебе худо со мною. А паче скажи: неизворотно.
Сказано это было безжалостно, непреклонно, но не дерзко, не вызывающе: неожиданная жалобность Ивана не тронула Епифания, но и не обольстила, не лишила трезвости. Он понимал её природу, зная, как любит Иван выставлять напоказ свои муки и горести и как нравится ему, когда его жалеют, когда скорбят вместе с ним о его нелёгкой доле. Нелёгкой, верно. Даже то, каким застал он его сегодня, подтверждало это. Доля его и вправду была трудна, жестока, но, к чести своей, он стойко сносил её (это тоже знал Епифаний), и не только сносил — дерзко противоборствовал ей, а вот удержаться, не выпятить этого, не приподнять повыше, на обозрение всем, — не мог. Вероятно, страсть к лицедейству проявляла себя и тут, но было и другое — глубинное, сокровенное, может быть, не совсем и осознанное, а потому и не лишённое искренности, не превратившееся в заведомое притворство и игру в мученичество. Это и в самом деле не было игрой в мученичество — это было возвеличение мученичества и себя в нём.
Ипостась мученика, страдальца не могла не привлекать его: от мученика до святого всего один шаг, а святость — величайшее обретение. Его прямые предки Александр Невский и Дмитрий Донской — святые! Их имена навечно вписаны в святцы! В их честь возводят храмы! Им поклоняются! Неужто же он не достоин такого?! Неужто же его деяния и подвиги не равны их деяниям и подвигам?! Им воздано также и за страдания, за великие муки, которые вытерпели они, неся свой крест. Но и он пьёт из той же чаши! Она тоже не минула его! Он тоже мученик, тоже страдалец, и крест его так же тяжек!
Но святость, даже если он заслужит её, — и утеха, и вечное успокоение, и вечное блаженство — это там, за гробом. А здесь, в жестокой земной жизни, всё его человеческое остаётся с ним, и его не заслонишь царским, не обольстишь, не подкупишь венцами и скипетрами, не подавишь никаким усилием воли; больное, горькое, нескорбевшееся, оно рвётся наружу — за состраданием, за сочувствием, и тянется к ним, ищет их, пускаясь на всякие уловки и ухищрения, или просто, вот так, как сейчас, взывает, просит...
Относиться к этому можно было по-разному: верить — не верить, откликаться на него — не откликаться, жалеть его — не жалеть, быть искренним или притворяться, насколько позволяла его проницательность; нельзя было делать лишь одного — принимать всё это за слабость, беспомощность, беззащитность и пытаться воспользоваться этим.
— Ты извык всё делати так, яко было тебе удобно, — продолжал Епифаний прежним тоном — строго, твёрдо, но не резко, не гневно, умело удерживаясь на той последней грани, которая отделяет упрёк от обличения. Слово трогает разум, тон — душу. Противостоять такому союзу ему было не под силу, и он не трогал души. — Ты и жил тако, и верил. А научители твои, в уподобаиии рьянясь