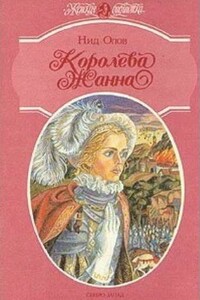— А я сегодня вставала, — сказала она однажды вместо приветствия, когда Давид вошел к ней, загоревший, с курткой, перекинутой через руку.
Жалюзи из деревянных реек раскачивались на ветру, пропуская рассеянный, не слепящий солнечный свет.
— Наконец-то! Значит, скоро будешь дома, — обрадовался он.
Дома! Где же это, интересно?
— Ну, это еще ничего не значит… — Она пошевелила своей перевязанной рукой. Маленькая аккуратная повязка, а не пакет с ватой, похожий на… Они помнили, их взгляды встретились. Люсьен Мари произнесла, прерывисто дыша:
— Давид… мне приснилось…
Он кивнул.
— Ты знаешь об этом? Я бредила, да?
— Да, — ответил он и провел ладонью по ее щеке.
Она спросила сдавленным голосом:
— А другие? Они не слышали? Не поняли они, что…
— Нет, как раз в тот момент я был там с тобой один.
Они помолчали немного. Потом она тихо сказала:
— Знаешь, это было реальнее, чем в жизни, мне показалось тогда, что незачем больше жить, лучше умереть, когда я увидела, что ошиблась.
Он вспомнил и то утро, когда она все плакала и ее сотрясала лихорадка. Он мог бы догадаться уже и тогда. Вспомнил, как она дрожала, как взволновалась, когда маленький Хосе пытался сосать ее голую руку.
Она продолжала, тем же напряженным, дрожащим голосом:
— Но самым удивительным было все-таки не это. А то, что я была я — но вместе с тем та, другая…
Он поднялся, сделал несколько шагов к окну, постоял, глядя на вечнозеленое дерево. Он уже знал, что за этим последует, знал еще до того, как она это произнесла, оборонялся заранее.
Она испугалась и замолчала. Но молчание ее было хуже, чем слова.
— Говори, — промолвил он, не оборачиваясь.
Она произнесла прерывистым шепотом, как под тяжестью вынужденной исповеди.
— Я была Эстрид. Я была она, когда у нее должен был родиться ребенок. Я думала: наконец-то, я так долго тебя ждала…
Он молчал, поэтому она продолжала шепотом:
— Откуда у меня это взялось? Ведь я ее даже не видела. И не знаю о ней ничего, так, только с твоих слов. И все-таки — я была ею. Как будто наследство получила от незнакомки.
Но ведь так оно в сущности и есть, подумал Давид. В этом отношении все они как-то сливаются вместе, все женщины до единой. Превращаются в одну космическую женщину, без всяких индивидуальных признаков. И такими тогда становятся для нас чужими…
— Давид, — сказала она, глядя на его спину. — Давид, я тебя мучаю? Иди сюда…
Когда он подошел и сел на край кровати, она положила ему руку сзади на шею, притянула его лицо к своему.
Ветер из Африки дул все сильнее.
Она больше не была больной, она была горячей, обновленной, в ней кипели силы вернувшегося к жизни человека.
Внутренний протест у Давида вспыхнул с новой силой — как только что, когда он стоял у окна, всем существом ощущая, как бьется у него сердце.
Вот лежит Эстрид, рассудительная, несчастливая, никогда не получавшая от него того, что просила. Поэтому она и оставила в нем такую боль, такой несглаживающийся шрам — рваный, болезненный: скупой благодетель, ускользающий должник.
А вот другая — зеленоглазая, колючая, не признающая никаких законов. Та, что бросила в него камень, раз не получила того, что хотела.
Теперь он должен отдать им свой долг…
И вот, наконец, она, его любимая, его Люсьен Мари, та, что зажгла в нем огонь, — но за ее лицом таились те два, другие.
Ветер из Африки шуршал в рейках жалюзи.
Она сумела разгадать его тайну — принимать любовь, даже если она приходит к ней со сжатыми кулаками и искаженным лицом, освобождать ее, преображать. До самых глубин существа делать его необузданным, гордым и свободным — а потом, в то мгновение, когда останавливается дыхание — счастливым до полного самозабвения. Тогда сотрясается земля, и тогда, как лава, тают границы его души.
Потом лава застывает и человек опять возвращается в свою постоянную форму — но у тела остается воспоминание о том, как это было, воспоминание о своем расплавленном состоянии.
Они ощущали глубочайшее отдохновение, они были далеко, далеко. Время, не измеряемое никем, длилось бесконечно. Возможно их оцепенение продолжалось не более, чем миг, нужный лепестку, чтобы оторваться от стебля и в медленном скользящем полете опуститься на каменные плитки дворика. А может быть, и все время, пока чья-то робкая рука перебирала регистр органа, разучивая хорал, едва доносившийся сюда из монастырской часовни по другую сторону двора.