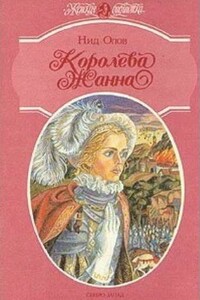Он подержал ее на расстоянии, не сгибая рук:
— Дай мне на тебя поглядеть.
— Нет…
— Я тебя все еще не узнаю. Ты стала такой парижанкой.
Парижанка улыбнулась:
— Ты меня помнишь, конечно, только в старом пятнистом рабочем халате!
Да, она стала более утонченной, более женственной, чем прежде. Может быть, это черный костюм делал ее такой? Или короткая стрижка? Или то, что его покрывало так удивительно хорошо сочеталось с ее желтым шарфиком, кокетливо повязанным на запястье?
Она что-то вспомнила, наклонилась, искоса взглянула на него лукавым взглядом и подняла подол юбки. Hа левой стороне была приколота английская булавка.
— Неряха, — сказал Давид нежно, узнавая ее вновь и вновь. — Ты не совсем изменилась, как я вижу.
Нет, она не изменилась. Иначе чем объяснить, что в ее манере показывать булавку на подоле юбки было больше женского обаяния, чем у всех женщин, вихляющих бедрами вокруг Пляс Пигаль?
— Задела за подол каблуком, когда выходила из самолета. Вели мне, чтобы я его подшила…
Он не слушал. Сел рядом с ней, играя короткими завитками у нее за ухом, наполовину бормоча, наполовину напевая что-то по-испански.
Она почти все поняла, но на всякий случай спросила:
— А что это означает?
Он перевел, приблизительно, но особенно стараясь, старинную народную песню:
Ты думаешь, нас кто-нибудь слышит? — Нет.
Можно, я тебе пошепчу? — Да.
У тебя есть возлюбленный? — Нет.
Хочешь, чтобы им был я? —
Она улыбнулась, и он ее слегка потормошил:
— Не хватает ответа, ты же слышишь! Хочешь, чтобы им был я?..
— Да, — ответила Люсьен Мари.
Комната вся плавала в золоте. Зеленый великомученик Сан Хуан висел, незаметный, в тени. Фены для сушки волос и женские голоса внизу теперь еще больше походили на жужжание насекомых на летнем лугу.
И вдруг послышался новый звук: грузные шаги по лестнице, по чердаку.
Они отпрянули друг от друга. Давид произнес односложное шведское ругательство.
Стук в дверь. Деликатное выжидание на грубое — да! Давида; потом дверь отворилась и за нею оказалась Консепсьон, улыбаясь так, что были видны все ее десны. На бедре она держала высокий кувшин с водой и в таком виде была похожа на богиню плодородия. Она сказала:
— Вот вам горячая вода — если сеньора захочет помыться с дороги.
Против всех и всяких ожиданий оказалось, что Консепсьон, видимо, прочла все-таки какой-то английский роман.
Давид повернулся к Люсьен Мари:
— Тебе нужна горячая вода?
Люсьен Мари в смятении покачала головой и ответила: нет, спасибо, и да, спасибо.
Консепсьон поняла это как поощрение к дальнейшей беседе. Она поставила кувшин на пол и умудрилась скомбинировать два жеста — скрестить руки на животе и погрозить пальцем Давиду.
— Я сразу же узнала вашу жену! Добро пожаловать, говорю, проходите, пожалуйста, в его комнату, сеньора!
— Как узнали? — повторил Давид глупо.
— Да по фотографии, она у вас в ящике. А другая вон, на письменном столе. Я же не виновата, что вижу их, когда убираюсь… Ну и хорошо, право, что она приехала, карамба! — заключила Консепсьон.
— Что она говорит? — спросила Люсьен Мари.
— Она говорит, сразу же узнала, что ты моя жена, и хорошо, что ты приехала, — перевел Давид неохотно.
— Ага! — сказала Люсьен Мари.
— Почему ты говоришь ага? — сердито спросил Давид, и настроение его нисколько не улучшилось при виде невольно улыбающихся друг другу женщин. — В чем дело? Что вы стоите и смеетесь? Кажется, ты уже успела заручиться союзницами там, внизу…
— Да ведь я их даже не понимаю, — пожала плечами Люсьен Мари, но опустила глаза.
— Хорошо — очень хорошо, — заключила Консепсьон, повела руками от одного к другому, как бы аплодируя, и скрылась за дверью.
Давид вздохнул. Люсьен Мари также. Им обоим всегда было нестерпимо досадно, когда у них крали мгновения блаженного дурачества. Он вынул из кармана пачку сигарет, предложил ей, услышал, как всегда, ее отказ, зажег сигарету себе.
— Ну, первый бесплатный совет, чтобы мы поженились, мы уже получили, — сказал он.
Люсьен Мари играла концами своего шарфика.
— Наводит на размышления, верно?
Этого он, наверное, не расслышал, потому что опять сел на кровать и похлопал по покрывалу рядом с собой.