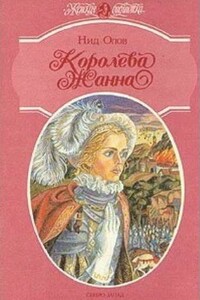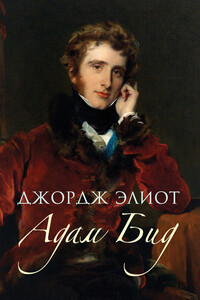Давид пошагал в Солас и зашел с рецептом в аптеку. Пожилой аптекарь с отвращением вернул бумажку обратно.
— Рецепт выписан не врачом, — проворчал он.
Да, в отношении лекарств в Испании и тени не было французского легкомыслия. Как, впрочем, и в Швеции.
Давид шел домой по улицам, бурлившим от рождественского ажиотажа и суматохи. Украшались дома, украшались церкви. Витрины магазинов соблазняли сладостями с мавританскими названиями. Ребятишки возились в сточных канавах, лепили из глины «nacimientos», маленькие фигурки младенца в яслях. Хозяйки готовили позднюю рождественскую трапезу — после мессы, в Nochebuena, в священную ночь, в веселую ночь, когда никто не помышлял о сне.
Давид остро ощущал, что он здесь чужой, среди всех этих веселых приготовлений. Ощущение породило осознанную мысль: надоело мне быть посторонним. Хочу домой, хочу к себе.
Он зашел и купил разных вкусных вещей для своих женщин, но от рождественских подарков воздержался. Деньги все пошли на побег Жорди.
В рождественский сочельник в белом доме произошло два события. Одно веселое, другое пугающее.
Первый раз Анунциата крикнула: — Посмотрите-ка в окно!
Жорди устремился к себе в убежище, но Давид воскликнул со смехом: нет, иди сюда, ты погляди только…
Из апельсиновой аллеи на лужайку перед домом вышла гигантская невеста. Покачивая бедрами, шествовала Консепсьон, а на голове у нее возвышалась детская кроватка, нечто вроде корзины с развевающимися занавесками. Зрелище было фантастическое, оно веселило глаз и душу.
Жорди остался наверху, а все другие встретили ее праздничными пожеланиями, угостили марципанами и самой лучшей мансанильей, имевшейся в доме.
— Я обещала сеньоре одолжить мою колыбельку, чтобы вам не пришлось ее покупать, — объяснила Консепсьон. — Успею еще получить ее обратно до следующего раза. А клиентки мои помогли сшить покрывало и занавесочки.
Обе старушки заявили, что колыбелька просто мечта. Давид, взрослый мужчина, чуть не заплакал, что посторонние женщины, едва сводящие концы с концами, согласились пожертвовать свое время и свой труд, чтобы выразить внимание к его ребенку.
Многое в этой стране было отталкивающим — но Давид глубоко и навсегда полюбил простых испанских женщин, женщин из народа, их живую человеческую теплоту. Он расцеловал Консепсьон в обе щеки, что вызвало целую бурю и веселое оживление в кухне Анжелы Тересы.
В дверях она обернулась и произнесла другим тоном:
— Если я буду нужна вам или вашей сеньоре, я в вашем распоряжении.
Давид поблагодарил и подумал про себя: что это — обычная испанская вежливость — или Консепсьон о чем-то догадывается и хочет таким способом выразить свою поддержку?
Этот визит внес в их дом оживление. Все собрались на кухне и с аппетитом поели миндального супа, рождественского лакомства, приготовленного Анунциатой по старинному рецепту; но тут Жорди заметил мелькнувший в глубине аллеи мундир.
Они спрятали Жорди в убежище и подвинули на него кровать, открыли дверь настежь и уселись за стол; однако, жандарм больше не появлялся.
Они ждали, не зная, вернется он обратно или нет, не решаясь выпустить Жорди хоть ненадолго — пока не услыхали громкий стук снизу, из подполья.
Когда Жорди выбрался наверх, он казался совершенно невменяемым, начал драться, так как во что бы то ни стало хотел на волю, на воздух. Давид схватил его, пытаясь удержать. Они упали на пол и стали бороться на полу.
— Пако… дружище, — тяжело дыша, промолвил Давид, — приди в себя! Ведь ты рискуешь жизнью, если выйдешь сейчас на улицу…
Жорди обмяк, лежал тихо, потом поднялся и почти официальным тоном попросил у Давида извинения.
— Можешь ты, наконец, понять, — сказал он, — что человек сходит с ума, если его тринадцать лет держат запертым в землянке.
Давид и обе старые женщины мгновение стояли неподвижно, потом медленно, в испуге и удивлении посмотрели друг на друга. Жорди тяжело поднялся по лестнице на второй этаж.
Когда Давид вошел к нему, он сидел, съежившись на стуле. Они не возвращались больше к странным словам, сказанным Жорди только что на кухне. Потом, попозже, они опять сели играть в шахматы — свою скучную, растянутую, рассеянную партию, пока спускались сумерки; они прислушивались ко всем доносившимся снаружи звукам.