— Ого! Он чужих сроду не подпускал, — с уважением сказал Басалаев. — Прав был Родионов: вы лошадник высокой марки…
— Да, теперь мы станем!.. — отвечая на свои мысли, тихо, но с силой произнес Кретов.
Сдержанное волнение, прозвучавшее в его голосе, вызвало понимающую, довольную улыбку на лице Басалаева.
Никифор не спускал глаз с прекрасного коня; это был конь-герой, конь его мечты. И сердце его бешено забилось, когда он услышал:
— Так за сколько же вы его нам уступите, Александр Иванович?
— Вы же лошадник, Алексеи Федорович, сами знаете, сколько стоит элитный жеребец таких статей. Тридцать тысяч. Но, — поспешно добавил Басалаев, — по-своему истолковавший движение Кретова, — если вы сейчас не располагаете такой суммой, мы можем попридержать коня..
— Простите, Александр Иванович, — мягко перебил Кретов, — деньги при мне.
— Ну, тогда и говорить нечего! — вдруг рассердился Басалаев. — Идемте в контору, оформим документы и забирайте коня. Слышите, сейчас же забирайте! — Он сердито закашлялся, платком утер усы — и уже совсем иным тоном, доверительно, с милой стариковской застенчивостью: — Думал, не придется мне с этим конем расстаться, а, выходит, сам же и навязал его. Но я к вам приеду, так и знайте, приеду!.. — грозно сверкнул очами Басалаев, махнул рукой и быстро зашагал по дорожке к конторе.
— Ну, чего ж ты ждешь? — спокойно сказал Кретов своему подручному. — Выводи…
Словно не веря его словам, Никифор странно, исподлобья, глянул на Кретова, отвернулся, вытер рукавом глаза и опрометью кинулся в денник.
I
Кукушка высунула головку из своего деревянного теремка, прокуковала четыре раза и юркнула назад. С протяжным звоном захлопнулись резные ставенки.
Тонкий и острый звук прервал глубокий утренний сон Авдотьи. Она метнулась всем своим сухим, легким телом и села на постели.
«Проспала!» — решила она, не размыкая век. Какое-то запоздалое сновидение пронеслось в ее голове, на миг помутив сознание; вслед за тем Авдотья проснулась по-настоящему.
Она открыла глаза, увидела стены своей новой избы в свежей побелке, туманное утро за окнами и вспомнила, что ей некуда опаздывать, некуда спешить. Авдотья снова легла, удивляясь тому, что в первый же свой нетрудовой день она, вопреки двадцатилетней привычке, проспала лишний час. Значит, много скопилось в теле неведомой ей самой усталости, значит, право было колхозное собрание, решив, что семидесятишестилетней доярке Авдотье Голиковой пора на покой.
Протянув поверх одеяла тонкие, темные руки с большими, охватистыми кистями, Авдотья вспомнила события вчерашнего дня.
Ее провожали торжественно. В два часа дня, когда она передала смену напарнице, на ферму пришли руководители колхоза во главе с председателем Стругановым и парторгом Ожиговым. В комнате отдыха доярок собрались все незанятые работники фермы, и Ожигов сказал речь, и Струганов сказал речь, и зоотехник Чернов сказал речь, и доярка Ольга Бутонина тоже высказалась, — и все о том, что Авдотья и такая, и сякая, и этакая. Но, зная про себя, что характер у нее трудный, неудобный для окружающих, Авдотья не придала их словам особого значения. Потом ей было предоставлено ответное слово. Авдотья намеревалась оказать о том, что с электродойкой дело еще не ладится, что до сих пор не выранжированы из стада коровы с низким удоем, что нельзя допускать малоопытных доярок к раздаиванию первотелок, — но вместо всего этого она неожиданно для самой себя выговорила:
— Двадцать два года работала на ферме Авдотья, а теперь в отставку!.. — и заплакала.
Она сама не понимала, почему плачет. Ведь для каждого человека рано или поздно наступает такая пора, когда он должен уступить свое место более молодым и сильным. И она уже подготовила себе надежную замену — Галю Воронкову, двадцатилетнюю, очень старательную и ловкую доярку, заочницу зоотехникума.
Хорошо хоть то, что окружающие сделали вид, что не замечают ее слез. Встал Струганов и хриплым голосом прочел постановление о премировании Авдотьи новым домом.
…Меж тем деревня пробуждалась. Заголосил петух бабки Игнатьевны, постоянно отстававший от других сухинских петухов. В горле у него была заложена ржавая, но необыкновенно сильная пружинка. Затем что-то зашуршало в черной тарелке репродуктора, и голос Струганова сказал:


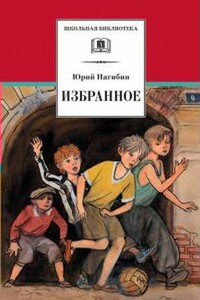
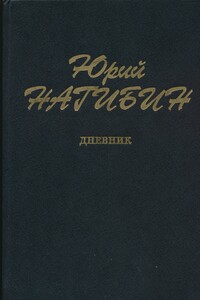


![Неоседланные лошади [Сборник рассказов]](/uploads/books/images/1c/1c16ca2920b359b5ad73cd59634fdad6e7101e6f.jpg)
